
4–366
Николадзе замечает, что тотчас по высылке Павлова друзья поняли и оценили осторожность Чернышевского… – Ср.: «Несколько дней спустя стало известно, что П. В. Павлов по высочайшему повелению выслан из столицы в одну из наиболее отдаленных губерний за свои продерзости на вечере. Только тогда мы простили Чернышевскому его осторожность и поняли, что благодаря сдержанности своей он избег той же участи» (Стеклов 1928: II, 203; НГЧ: 246–247).
4–367
… герой его романа <… > сел в пролетку и крикнул: «В Пассаж!» – Словами: «В Пассаж! – сказала дама в трауре, только теперь она была не в трауре…» – начинается очень короткая заключительная глава романа «Что делать?», по времени действия отнесенная в будущее. Рядом с дамой в коляске сидит «мужчина лет тридцати», по-видимому, сам Чернышевский, только что вернувшийся в Петербург после долгого отсутствия (где он был, в тюрьме или за границей, читателю неизвестно). Эта реминисценция подспудно вводит тему Достоевского, упомянутого в следующем абзаце, поскольку его сатирическая повесть, направленная против Чернышевского и его последователей-«нигилистов», называлась «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в „Пассаже“» (1865).
–368
<… > Духов день (28 мая 1862 г.), дует сильный ветер; пожар начался на Лиговке, а затем мазурики подожгли Апраксин Двор. – Опустошительные пожары в Петербурге (истинные их виновники до сих пор неизвестны) начались 16 мая 1862 года на Лиговке и продолжались в течение двух недель, вызвав панику в городе. 28 мая, в праздник Духова дня, «произошел самый страшный пожар, какого не запомнит Петербург» (цитата из журнальной хроники пожаров: Библиотека для чтения. 1862. Т. 171. № 6. С. 203; фрагменты хроники без кавычек: Стеклов 1928: II, 337): сгорели сотни лавок Толкучего рынка в Апраксином дворе, расположенном между Фонтанкой, Садовой улицей и Чернышевым переулком (ныне – улица Ломоносова). Сильный ветер, раздувавший пламя, отмечают все очевидцы (Там же: 338; Панаева 1972: 318–321; Скабичевский 1928: 158–161 и мн. др.). Одной из главных версий возникновения пожара был поджог, совершенный «мазуриками» – то есть мошенниками и ворами, враждовавшими с апраксинскими торговцами, которые в этот день по традиции отмечали праздник гулянием в Летнем саду. Когда в разгар гуляния раздались крики: «Апраксин горит!», «публика в ужасе бросилась к выходам из сада, и у каждых ворот произошла смертельная давка <… > Пользуясь этой суматохою, мазурики уже не воровали, а прямо срывали с девиц драгоценности, с клочьями платья и кровью из разорванных ушей. Это и дало повод предполагать, что поджог был произведен мазуриками, с специальной целью поживиться насчет гуляющих в Летнем саду разодетых купчих» (Скабичевский 1928: 159). Похожее объяснение предложил А. А. Краевский в письме к Погодину: «… весь апраксинский народ был в Летнем Саду; а ветер был такой страшный, что деревья с корнем выворачивало. Следственно, если мазурики, точившие давно зубы на Апраксин двор, случайно выбрали этот день не потому, что было ветрено, а потому, что был праздник, тут вот и разгадка страшного пожара» (Барсуков 1905: 141; Стеклов 1928: II, 339, здесь цитата ошибочно приписана Н. П. Барсукову).
4–369
… мчатся пожарные, «и на окнах аптек в разноцветных шарах вверх ногами на миг отразилися». – Не вполне точно цитируются строки поэмы Некрасова «О погоде» (гл. 2, 1865), описывающие выезд пожарной команды: «Вся команда на борзых конях / Через Невский проспект прокатилась / И на окнах аптек, в разноцветных шарах / Вверх ногами на миг отразилась…» (Некрасов 1981–2000: II, 194). Как и в первой главе, Годунов-Чердынцев заменил женское окончание некрасовского стиха на дактилическое (см.: [1–179]). Во второй половине XIX – первой половине ХХ века как в Западной Европе, так и в России было принято ставить или вешать в витринах аптек стеклянные шары с подкрашенной водой.

«Аптека, как она быть должна. На окнах пузыри с цветными жидкостями…» (Лейкин 1879: 200); «А вон аптека со своими красными и голубыми шарами» (Альбов 1895: 160); «И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек» (Мандельштам 1990: II, 43).
–370
А там густой дым повалил через Фонтанку по направлению к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб… – Ср.: «… густой дым валил между тем через Фонтанку по направлению к Чернышеву переулку, и скоро новый столб черного дыма поднялся из навесов этого переулка» (Стеклов 1928: II, 338; с некоторыми отличиями: Библиотека для чтения. 1862. Т. 171. № 6. С. 203).
–371
Между тем Достоевский прибежал. Прибежал к сердцу черноты, к Чернышевскому и стал истерически его умолять приостановить все это. – Встреча Чернышевского с Достоевским, о которой здесь идет речь, произошла через несколько дней после пожара в Апраксином дворе, причем воспоминания обоих писателей о ней существенно расходятся. Достоевский в «Дневнике писателя» (1873) не упомянул о пожарах, объяснив свой неожиданный визит тем, что он хотел показать Чернышевскому полученную им прокламацию «К молодому поколению», [41] которая его возмутила. Тех, кто стоит за прокламацией, надо «остановить во что бы то ни стало», – якобы сказал он и просил Чернышевского использовать свое влияние на революционную молодежь, чтобы «прекратить эту мерзость» (Достоевский 1972–1990: XXI, 23–26). Набоков, однако, следует версии Чернышевского, изложенной в его заметке «Мои свидания с Ф. М. Достоевским» (1888). Согласно Н. Г., Достоевский, находясь в состоянии «умственного расстройства», сказал ему приблизительно следующее: «Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими» (ЛН: III, 532). «Потешный анекдот» о Достоевском Чернышевский рассказывал и товарищам по каторге. В. Н. Шаганов передал его так: «В мае 1862 г., в самое время петербургских пожаров, рано поутру врывается в квартиру Чернышевского Ф. Достоевский и прямо обращается к нему с следующими словами: „Николай Гаврилович, ради самого Господа, прикажите остановить пожары!..“ Большого труда тогда стоило, говорил Чернышевский, что-нибудь объяснить Ф. Достоевскому. Он ничему верить не хотел и… убежал обратно» (Шаганов 1907: 8; Стеклов 1928: II, 324, примеч. 1).
Словосочетание «сердце черноты» обыгрывает название повести Дж. Конрада «Сердце тьмы» («Heart of Darkness», 1899), а эмфаза в нем – тройственное созвучие: чернота – Чернышевский – Чернышев переулок (эпицентр пожаров).
–372
… слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году петрашевцами. – Стеклов приводит примечание П. И. Бартенева к напечатанному в «Русском архиве» отрывку из письма Ф. И. Тютчева, в котором тот писал о петербургских пожарах: «Поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году Петрашевским с братиею. (Слышано от И. П. Липранди)» (Русский архив. 1899. № 8. С. 594; Стеклов 1928: II, 342, примеч. 1). В 1848–1849 годах Иван Петрович Липранди (1790–1880), чиновник особых поручений при министре внутренних дел, организовал постоянную слежку за Петрашевским и членами его кружка, в том числе Достоевским, а затем представил доклад о тайном обществе, на основании которого петрашевцы были арестованы.
4–373
<… > доносили, что ночью в разгаре бедствия «слышался смех из окна Чернышевского». – В донесении от 5 июня 1862 года сообщалось: «В день пожара, 28 числа, когда горел Толкучий рынок, к Чернышевскому приходило очень много лиц… Собравшись вместе, они были чрезвычайно веселы и все время смеялись громко, так что возбудили удивление других жильцов дома, слышавших это через открытые окна» (Козьмин 1928: 177; Стеклов 1928: II, 350, примеч. 1).
4–374
«с фамильей как поцелуй», при выходе «из вокзала» заметил двух дам, резвившихся как шалые, и, по сердечной простоте приняв их за молоденьких камелий, «произвел попытку поймать обеих за талии». Бывшие при них четыре студента окружили его и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из дам – жена литератора Чернышевского, а другая – ее сестра. Что же, по мнению полиции, делает муж? Он домогается отдать дело на суд общества офицеров – не из соображений чести, а лишь для того, чтобы под рукой достигнуть сближения офицеров со студентами. – Об отъезде семьи Чернышевского в Павловск после пожаров мы знаем из воспоминаний Н. Я. Николадзе (см.: [4–29]), который тогда тоже жил там и часто встречался с Ольгой Сократовной на прогулках в парке и на концертах (Каторга и ссылка. 1927. № 5. С. 41; НГЧ: 250).
«В Павловске, 10 июня, при выходе из вокзала, адъютант образцового кавалерийского эскадрона ротмистр Лейб-гвардии уланского полка Любецкий, приняв по ошибке двух дам за женщин вольного обращения, оскорбил их. Бывшие при них 4 студента окружили Любецкого и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из этих дам – жена литератора Чернышевского, а другая – сестра ее. Любецкий, чрез родственников их и полицмейстера, просил извинения, но муж Чернышевский, желая воспользоваться этим случаем для сближения офицеров помянутого эскадрона со студентами, домогался отдать дело на суд общества офицеров. Сделанными ему в III отделении внушениями это домогательство отклонено, и Чернышевский отказался от всяких притязаний к Любецкому, а жену свою отправил в Саратов» (Сергеев 1923).
Скандал произошел в знаменитом «музыкальном вокзале» Павловска, пригорода Петербурга, – большом концертном зале с садом и ресторанами при станции железной дороги. Именно поэтому в английском переводе «Дара» слово «вокзал» передано как vauxhall (по названию публичного сада Vauxhall Gardens близ Лондона, в XVIII – первой половине XIX века излюбленного места прогулок, концертов и других развлечений, послужившего образцом для павловского вокзала) с сохранением кавычек (Nabokov 1991b: 268).
«С фамильей как поцелуй» и «произвел попытку поймать обеих за талии» – скорее всего, псевдоцитаты, возможно, из Страннолюбского. Первая из них (в английском переводе она раскавычена) стилизована под поэтическую строку или водевильную реплику, вторая – под полицейский протокол. Сравнение имени с поцелуем встречается в патриотическом стихотворении В. Г. Тана-Богораза «Прощанье» (1904, цикл «Из военных мотивов»), которое Набоков мог читать в детстве: «Твое святое имя, Русь, / Звучит, как поцелуй!» (Тан 1910: 45). Княжеская фамилия Любецкий имеет и театрально-литературную историю. В водевиле П. А. Каратыгина «Вицмундир» (1845) действует вдова Анна Любецкая; другая Анна Любецкая и ее брат Андрей, актеры, – герои фарса в двух действиях с пением В. А. Крылова (см.: [4–357]) «В погоню за прекрасной Еленой» (1872); в Надиньку Любецкую влюблен Адуев-младший в романе Гончарова «Обыкновенная история» (1847); князь Андрей Любецкий – главный герой дурного романа М. Н. Волконского «Мертвые и живые» (1898).
к архетипическому гоголевскому «лихому парню», драгунскому штабс-ротмистру Поцелуеву – тому самому приятелю Ноздрева, который называет бордо бурдашкой.
–375
5 июля ему пришлось по поводу своей жалобы побывать в Третьем отделении. Потапов, начальник оного, отклонил его домогательство, сказав, что по его сведениям, улан готов извиниться. Тогда Чернышевский <… > спросил: «<… > но если мне нужно будет увезти жену за границу, на воды <… > могу ли выехать беспрепятственно?» – «Разумеется, можете», – добродушно ответил Потапов; а через два дня произошел арест. – Неточность. Чернышевский имел беседу с управляющим Третьим отделением, генерал-майором Алексеем Львовичем Потаповым (1818–1886) 16 июня 1862 года (Чернышевская 1953: 115; Чернышевский 1934: 582). Содержание беседы известно по воспоминаниям Н. В. Рейнгардта, которому о ней рассказал Чернышевский. Потапов заявил, что если Н. Г. желает, «офицера заставят извиниться перед ним и его супругой», но Чернышевский от извинений великодушно отказался. Затем он спросил Потапова, «не имеет ли правительство каких-нибудь подозрений против него <… > и потому может ли он уехать в Саратов, так как в Петербурге ему в виду закрытия „Современника“ делать нечего, на что Потапов ответил, что правительство против Николая Гавриловича ничего не имеет и ни в чем не подозревает» (Рейнгардт 1905: 471).
–376
… в Лондоне открылась всемирная выставка <… > туда съехались туристы и негоцианты, корреспонденты и соглядатаи… – Набоков перифразирует Стеклова, который, в свою очередь, пересказывает главу «Апогей и перигей» седьмой книги «Былого и дум» Герцена: «В 1862 году в Лондоне открылась всемирная выставка. <… > В Лондон съехалось множество русских, принадлежавших к различным классам общества. Тут были, как рассказывает Герцен, купцы и просто туристы, журналисты и чиновники, в особенности чиновники III отделения. Вся эта публика по воскресеньям собиралась на журфиксы к Герцену» (Стеклов 1928: II, 361–362; ср.: Герцен 1954–1966: XI, 313).
4–377
… Герцен, в припадке беспечности, у всех на глазах передал собиравшемуся в Россию Ветошникову письмо, в котором между прочим (письмо было, собственно, от Огарева) просил Серно-Соловьевича обратить внимание Чернышевского на сделанное в «Колоколе» объявление о готовности печатать «Современник» за границей. – Историю этого «рокового промаха» Герцен рассказал в «Былом и думах» (Там же: 328; Стеклов 1928: II, 362). Арестованный по его вине чиновник Павел Александрович Ветошников (1831–186?) был приговорен к ссылке в Сибирь, откуда уже не вернулся. Само конфискованное у него письмо Огарева Серно-Соловьевичу (см.: [4–354]) с приписками Герцена см.: Лемке 1907: 204–206; Лемке 1923: 180–182. В них Герцен сообщал о готовности издавать «Современник» в Лондоне или Женеве и спрашивал, давать ли об этом объявление в «Колоколе».
4–378
<… > в доме Есауловой, где до него, покуда не вышел в министры, жил Муравьев, – изображенный им <… > в «Прологе». – С адреса Чернышевского начинает очерк о его аресте М. А. Антонович: «В 1862 г. Николай Гаврилович <… > жил близ Владимирской церкви, в Большой Московской улице, в первом этаже дома Есауловой» [42] (Антонович 1933: 125).
–1866) – государственный деятель, ярый противник освобождения крестьян; проявил крайнюю жестокость при подавлении польского восстания, за что получил прозвище «Вешатель». Выведен в романе Чернышевского «Пролог» под именем графа Чаплина. О том, что Муравьев в 1857 году, сразу после назначения министром государственных имуществ, жил в доме Есауловой, где потом поселится Чернышевский, пишет Н. В. Шелгунов, служивший тогда в том же министерстве (Шелгунов 1967: 84).
4–379
… доктор Боков (впоследствии изгнаннику посылавший врачебные советы)… – Петр Иванович Боков (1835–1915) – врач, один из ближайших друзей Чернышевского; по убеждению современников, главный прототип Лопухова в романе «Что делать?». Сохранился список лекарств и медицинских наставлений, посланных сыном Чернышевскому в Сибирь в 1876 году. Как замечает М. Н. Чернышевский, «наставления сделаны, по всей вероятности, по указаниям доктора П. И. Бокова» (ЧвС: II, 217). В июле 1884 года Боков заезжал к Чернышевскому в Астрахань и давал ему врачебные советы (Чернышевская 1953: 535).
–380
… Антонович (член «Земли и Воли», не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен). – М. А. Антонович (см.: [3–128], [3–129]) назван членом организации «Земля и воля» в очерке М. Н. Слепцовой (см.: [4–334]), которая замечает: «Как известно, он был у Чернышевского в день его ареста, причем даже не подозревал причастности Н. Г. к „Земле и воле“» (Слепцова 1933: 440). Воспоминания Антоновича об аресте Чернышевского (Антонович 1933) – основной источник эпизода, хотя Годунов-Чердынцев дополняет рассказ очевидца несколькими вымышленными подробностями.
4–381
– Ср.: «… мы трое <… > из кабинета перешли в зал. Мы сидели мирно и весело беседовали, как вдруг в передней раздался звонок <… > Мы подумали, что это пришел кто-нибудь из знакомых лиц, и продолжали разговаривать. Но вот в зал, дверь в который вела прямо из передней, явился офицер, одетый в новый с иголочки мундир, но, кажется, не жандармский, – так как он был не небесного голубого цвета, а черного, – приземистый и с неприятным выражением лица…» (Там же: 125).
–382
… тот самый Ракеев, который <… > умчал из столицы в посмертную ссылку гроб Пушкина. – По воспоминаниям Михайлова (см.: [4–357]), полковник Ракеев (см.: [4–254]), проводивший у него обыск, говорил ему: «А знаете-с? Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал… Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его» (Михайлов 1967: 260).
–383
Поболтав для приличия десять минут, он с любезной улыбкой, от которой доктор Боков «внутренне похолодел», заявил Чернышевскому, что хочет поговорить с ним наедине. «А, тогда пойдем в кабинет», – ответил тот и сам бросился туда первый, да так стремительно, что Ракеев не то что растерялся, – слишком был опытен, – но в своей роли гостя не счел возможным столь же прытко последовать за ним. Чернышевский же тотчас вернулся, судорожно двигая кадыком и запивая что-то холодным чаем (проглоченные бумаги, по жуткой догадке Антоновича), и <… > пропустил гостя вперед. – Набоков существенно изменяет обстоятельства обыска и ареста, описанные Антоновичем, и даже противоречит мемуаристу. Согласно Антоновичу, Ракеев, войдя в зал, сразу же заявил, что ему нужно поговорить с Чернышевским наедине. «А, в таком случае пожалуйте ко мне в кабинет», – проговорил Николай Гаврилович и бросился из зала стремительно, как стрела, так что офицер растерялся, оторопел и бормотал: «Где же, где же кабинет?» (Антонович 1933: 126). Так как Н. Г. не возвратился, то растерявшегося Ракеева проводил в кабинет пришедший с ним полицейский пристав. Никакой догадки о проглоченных бумагах Антонович не высказывал; лишь Стеклов, комментируя его рассказ, заметил, что Чернышевский, видимо, «хотел (и успел) уничтожить какие-то компрометирующие документы» (Стеклов 1928: II, 367, примеч. 2).
–384
Его друзья от нечего делать (чересчур неуютно ждалось в зале, где почти вся мебель была в саванах) отправились гулять («… не может быть… я не думаю…» – повторял Боков), а когда воротились к дому <… > с тревогой увидели, что теперь у двери стоит <… > казенная карета. – На самом деле друзья сначала простились с Н. Г. у него в кабинете (см. ниже), а потом, «понурив голову и не говоря ни слова друг с другом», отправились к Антоновичу, жившему неподалеку, где «стали обсуждать вопрос: арестуют ли Николая Гавриловича или ограничатся только обыском?». Через полчаса они вышли на улицу и увидели карету, стоявшую у подъезда Чернышевского. «Походивши по соседним улицам еще с полчаса, мы пришли к дому Есауловой и – кареты уже не было» (Антонович 1933: 128–129).
4–385
– Антонович. Николай Гаврилович сидел у письменного стола, играл ножницами, а полковник сидел сбоку, заложив ногу на ногу; беседовали – все ради приличия – о преимуществах Павловска перед другими дачными местностями. – Ср.: «… мы с Боковым отправились в кабинет. Николай Гаврилович и Ракеев сидели у стола; Николай Гаврилович на хозяйском месте у середины стола, а Ракеев сбоку стола, как гость. Когда мы входили, Николай Гаврилович произносил такую фразу: „Нет, моя семья не на даче, а в Саратове“. Очевидно, Ракеев, прежде чем приступить к делу, счел нужным пуститься в светские любезные разговоры» (Там же: 127).
4–386
«А вы разве тоже уходите и не подождете меня?» – обратился Чернышевский к апостолу. «Мне, к сожалению, пора…» – смутясь душой, ответил тот. «Ну что ж, тогда до свидания», – сказал Николай Гаврилович шутливым тоном и, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича… – Ср.: «„До свидания, Николай Гаврилович“, – сказал я. „А вы разве уже уходите, – заговорил он, – и не подождете меня?“ И на мой ответ, что мне нужно уйти, он сказал шутливым тоном: „ну, так до свидания“, и, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в мою руку» (Там же). Выражение «смутясь душой» – по-видимому, цитата из поэмы Лермонтова «Демон»: «И возле кельи девы юной / Он шаг свой мерный укротил, / И руку над доской чугунной, / Смутясь душой, остановил» (о «стороже полночном»: Лермонтов 2014: II, 417). Любопытно, что все предложение, в которое входит этот оборот, укладывается в схему четырехстопного ямба с мужскими окончаниями – размер лермонтовского «Мцыри».
–387
… убрали буяна, убрали «дерзкого, вопиявшего невежу», как выразилась <… > писательница Кохановская. – Цитата из письма И. С. Аксакову Надежды Степановны Кохановской (наст. фамилия Соханская, 1825–1884), писательницы-славянофилки (Барсуков 1905: 387; Стеклов 1928: II, 206, примеч. 2).
4–388
… — Годунов-Чердынцев пародирует метод рассуждений, характерный для Чернышевского, который часто прибегал к помощи псевдоматематических формул и схем, и попутно обыгрывает советские аббревиатуры ЧК и КП.
–389
– человека с безуминкой, с печоринкой, при этом стихотворца: он оставил в литературе сколопендровый след, как переводчик иностранных поэтов <… > и был он действительно лют в своей молчаливой мрачности, фатален и лжив, хвастлив и придавлен. – До своего ареста Всеволод < sic!> Костомаров (см.: [4–36], [4–331]) попал в круг Чернышевского как начинающий поэт и переводчик Гейне по рекомендации А. Н. Плещеева (см.: [4–392]) и успел выпустить вместе с Ф. Н. Бергом два выпуска антологии зарубежной поэзии (см.: Савченко 1994). Согласно приговору по делу о печатании прокламаций, вынесенному лично Александром II и объявленному в сенате 2 января 1863 года, Костомарова должны были «по выдержании в крепости шести месяцев, отправить на службу в войска кавказской армии рядовым» (Лемке 1923: 50), но приговор так и не был приведен в исполнение из-за его активного участия в деле Чернышевского. Знавший Костомарова Шелгунов предполагает, что в заключении он повредился рассудком: «Откуда его озлобление, мрачное, подавленное, сосредоточенное состояние и выдумки, похожие на бред человека, страдающего галлюцинациями? Он просто сочинял обвинения и выдумывал чистые несообразности, которые всем и сразу были очевидны. И все это он делал с какой-то упрямой, злой настойчивостью <… > Вся мрачная, молчаливая подавленность, которая замечалась и ранее в Костомарове, приняла двойные размеры <… > Главными отличительными чертами характера Костомарова, как мне кажется, были трусость и хвастливость. <… > Вообще эта натура была придавленная, приниженная и пассивная» (Шелгунов 1967: 166–167; Стеклов 1928: II, 391).
–390
Писарев в «Русском Слове» пишет об этих переводах, браня автора за «драгоценная тиара занялась на нем как фара» («из Гюго»), хваля за «простую и сердечную передачу куплетов Бернса» <… > а по поводу того, что Костомаров доносит читателю, что Гейне умер нераскаянным грешником, критик ехидно советует «грозному обличителю» «полюбоваться на собственную общественную деятельность» – Писарев рецензировал сборники переводов Вс. Костомарова и Ф. Берга дважды – в декабре 1860 года и затем в мае 1862 года, когда предательство Костомарова, выдавшего властям М. Михайлова, стало достоянием гласности. В шеститомном собрании сочинений Писарева конца XIX – начала ХХ века обе рецензии печатались под общим заглавием «Вольные русские переводчики». Над неологизмом «фара», которым Костомаров передал фр. phare (‘маяк, фонарь маяка’), Писарев посмеялся в первой из рецензий (Писарев 1900–1913: II, 243), а перевод из Бернса «Прежде всего» похвалил во второй: «… надо сказать спасибо Костомарову за то, что он перевел это стихотворение просто и изящно…» (Там же: 253). В конце рецензии 1862 года Писареву удалось намеком «увековечить истинную физиономию» презренного доносчика (Лемке 1923: 500). Костомаров, – пишет он, – «доносит (курсив Писарева. – А. Д.) читателю, что раб Божий Генрих Гейне умер нераскаянным грешником. <… > Напрасно Костомаров к имени пиетиста Генгстенберга, встречающемуся в переводе „Германии“ делает следующее язвительное замечание: „Генгстенберг, по доносу которого отнята кафедра у Фейербаха“. Кто так близко подходит к Генгстенбергу по воззрениям, тому следовало бы быть поосторожнее в отзывах. Кто знает? Может быть Генгстенберг сделал донос с благою целью! Может быть, делая свой донос, Гентстенберг воображал себя таким же полезным общественным деятелем, каким воображает себя Костомаров, обличая нераскаянного грешника и „иронического юмориста“ Генриха Гейне» (Писарев 1900–1913: II, 255).
4–391
… свои донесения Путилину (сыщику) он подписывал: «Феофан Отченашенко» или «Венцеслав Лютый». <… > Наделенный курьезными способностями, он умел писать женским почерком <… > Множественность почерков в придачу к тому обстоятельству <… > что его обычная рука напоминала руку Чернышевского, значительно повышала цену этого сонного предателя. – Известный сыщик Иван Дмитриевич Путилин (1830–1898) принимал активное участие в следствии по делу Чернышевского и, воспользовавшись «довольно хорошим знакомством» с Костомаровым, убедил его стать осведомителем и провокатором. Конспиративные письма Костомарова к Путилину, подписанные разнообразными псевдонимами, в том числе упомянутыми Набоковым, см.: Лемке 1923: 207–218, 243–248, 260. Согласно советским графологам, проводившим экспертизу этих писем, они написаны «совершенно различными, изумительно измененными почерками, вплоть до нежного тонкого женского почерка на розовой бумаге с подписью „Fanny“» (Стеклов 1927: 156), причем иногда почерк Костомарова похож на почерк Чернышевского (Стеклов 1928: II, 400, примеч. 1).
4–392
… к «Алексею Николаевичу»… — По сценарию следствия, поддельное письмо, уличающее Чернышевского, почему-то должно было быть адресовано поэту Алексею Николаевичу Плещееву (1825–1893), который не имел никакого отношения к революционным делам.
–393
… — Как показала графологическая экспертиза, проведенная в 1927 году, документы состояли «из смеси неискусно подделанных типов почерка Чернышевского с явными признаками почерка Костомарова» (см.: Стеклов 1927).
–394
… – Дмитрий Писарев (1840–1868) был арестован и доставлен в Петропавловскую крепость 2 июля 1862 года. Ему вменяли в вину рукописную статью против охранительной брошюры правительственного агента Шедо-Ферроти, найденную у арестованного студента Петра Баллода (1839–1918). В этой статье Писарев резко протестовал против репрессивных мер правительства и предсказывал скорую гибель династии Романовых и петербургской бюрократии: «То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы» (Лемке 1923: 539–547). Сидел Писарев не в Алексеевском равелине, как ошибочно утверждал Лемке, а в каземате Екатерининской куртины (Быховский 1936: 655–657). В октябре 1864 года Писарева приговорили к заключению в крепости на 2 года и 8 месяцев, но выпустили на свободу раньше срока, 18 ноября 1866 года.
4–395
«Глубокий» половик поглощал без остатка шаги часовых, ходивших по коридору… Оттуда лишь доносился классический бой часов… Приподняв угол зеленой шерстяной занавески, часовой в дверной глазок мог наблюдать заключенного, сидящего на зеленой деревянной кровати или на зеленом же стуле, в байковом халате, в картузе, – собственный головной убор разрешался, если это только не был цилиндр <… > (Писарев, тот сидел в феске). Перо полагалось гусиное; писать можно было на зеленом столике с выдвижным ящиком… — В описании быта заключенных Алексеевского равелина Набоков следует за записками Ивана Борисова, в 1862–1865 годах служившего в канцелярии Петропавловской крепости, с добавлением некоторых подробностей (см.: Борисов 1901; Лемке 1923: 555–556; НГЧ: 280–285). Например, он «докрашивает» тюремную мебель в зеленый цвет: Борисов отмечает зеленую шерстяную занавеску на двери и деревянную зеленую кровать, но ничего не говорит о цвете «столика с выдвижным ящиком» или стула. Нет у Борисова и картуза, который якобы носил Чернышевский в крепости. Он сообщает лишь, что арестантам выдавали казенные фуражки, причем «собственная фуражка или шляпа дозволялись, если то не был цилиндр» (Борисов 1901: 575). В тюремных описях личных вещей Чернышевского значатся «фуражка шелковая черная» и «шапка меховая», но не картуз (Щеголев 1929: 50). По всей вероятности, Набоков создает «рифму» с концом жизни Чернышевского, ходившего в Астрахани в «мятом картузе», так что его «можно было принять за старичка мастерового» (см.: [4–537]).
функции так называемой «курительной шапочки» – головного убора, предохраняющего волосы от табачного дыма. В феске выходит к завтраку Павел Петрович Кирсанов в «Отцах и детях»: «На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска» (Тургенев 1978–2014: VII, 24). Малиновая феска и шлафрок – неизменный наряд другого тургеневского сибарита, князя Полозова в «Вешних водах». Красную феску носит дома главный герой романа Писемского «Взбаламученное море» студент Бакланов, «барчук», в котором заметно «стремление к роскоши и щегольству» (Писемский 1895–1896: IX, 133–134). Надевая на Писарева феску, Набоков вероятно хочет подчеркнуть, что он, в отличие от Чернышевского, тоже был – по свидетельствам современников – «человеком избалованным и изнеженным» (Лемке 1923: 555), барчуком, одевавшимся «щеголевато» (Шелгунов 1967: 211), «с иголочки» (Скабичевский 1928: 94).
–396
В тюремном дворе росла небольшая рябина. – Набоков, очевидно, не знал, как выглядел внутренний двор Алексеевского равелина, куда заключенных выводили на прогулку. По свидетельству народовольца П. С. Поливанова, сидевшего в равелине через двадцать лет после Чернышевского, там росли большая старая липа, десять высоких берез, яблони, посаженные еще декабристом Батеньковым, кусты бузины, сирени, малины и смородины (Поливанов 1990: 374–375). Большие деревья видны и на уникальной фотографии Алексеевского равелина 1860-х годов (Русская старина. 1904. № 7. Вклейка между с. 112 и 113).

–1863), проведший в тюрьме равелина без малого девятнадцать лет, рассказал, что ему удалось вырастить дерево из семечка съеденного им яблока, так что к концу заключения он уже мог отдыхать под тенью этой яблони (Греч 1886: 423; Мир Божий. 1899. № 3. Отд. II. С. 28).
По-видимому, Набоков хотел, чтобы чахлая тюремная рябина как символ русской тирании контрастировала с необычной гималайской рябиной второй главы (см.: [2–137]) и «низкой перистой листвой рябин» в Груневальдском лесу (506), которые радуют глаз Федора в главе пятой.
4–397
<… > что в это время камера обыскивается, – следовательно, отказ от прогулки внушил бы администрации подозрение, что он у себя что-то прячет; когда же убедился, что это не так <… > то с легким сердцем засел за писание… — Ср. в показаниях Чернышевского, данных Сенату в мае 1863 года: «Я терпеть не могу ходить по комнате или саду. <… > Когда меня приглашали выходить в сад, я сначала выходил, воображая, что в это время обыскивается комната и что я возбудил бы подозрение отказом удалиться из нее, но месяца через три я убедился, что обысков не делают, подозревать не станут, – и, как только убедился в этом, стал отказываться выходить в сад» (Щеголев 1929: 30–31; пересказ: Стеклов 1928: II, 374).
в № 12 (НГЧ: 523).
4–398
… окончил к зиме перевод Шлоссера, принялся за Гервинуса, за Маколея. – О переводе Шлоссера см.: [4–244]. В Петропавловской крепости Чернышевский перевел книгу немецкого историка Георга Гервинуса (1805–1871) «Введение в историю XIX века» (1853) и два тома «Истории Англии» английского историка и политического деятеля Томаса Баббингтона Маколея (1800–1859).
4–399
… знаменитое письмо Чернышевского к жене, от 5 декабря 62-го года… – Ошибка в датировке: речь идет о письме от 5 октября 1862 года, которое было задержано тюремщиками и приобщено к следственному делу (Лемке 1923: 219–221; ЛН: II, 411–413).
–400
… рвануть узду и, может быть, обагрить кровью губу России… – Конская метафора восходит прежде всего к «Медному всаднику», где она применена к Петру I как преобразователю России: «О мощный властелин судьбы! / Не так ли ты над самой бездной, / На высоте уздой железной / Россию поднял на дыбы» (Пушкин 1937–1959: V, 147). Кроме того, Набоков мог помнить напечатанный в воскресном литературном приложении к берлинской газете «Накануне» яркий текст Мандельштама под названием «Кобыла» – вольный перевод третьего стихотворения из цикла «L’Idole» («Кумир» или «Идол») О. Барбье, в котором поэт обращается к Наполеону, «оседлавшему» Францию: «Строгая ей бока, ломая позвоночник, / Ты взвил струной свою рабу / И бешеной узды холодною цепочкой / Рванул ей нежную губу» (1924. № 40. 17 февраля; в оригинале Наполеон-всадник не рвет губу уздой, а удилами ломает кобыле зубы: «Tu retournas le mors dans sa bouche bareuse, / De fureur tu brisas ses dents»).
4–401
«Люди будут вспоминать нас с благодарностью», – писал он Ольге Сократовне… – Ср. в письме Н. Г. жене от 5 октября 1862 года: «Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории: пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами» (ЛН: II, 412; см. также: [4–148]).
–402
После слов «как был Аристотель», идут слова: «А впрочем, я заговорил o своих мыслях: они – секрет; ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной». «Тут, – комментирует Стеклов, – на эти две строки упала капля слезы, и Чернышевский должен был повторить расплывшиеся буквы». Это-то вот и неточно. Капля упала д о начертания этих двух строк, у сгиба; Чернышевскому пришлось наново написать два слова (в начале первой строки и в начале второй), попавшие было на мокрое место, а потому недописанные (се… секрет, о т… о том). – Набоков не вполне точно цитирует примечание Стеклова. Ср.: «После слов: „Со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель“, идут слова: „А, впрочем, я заговорил о своих мыслях; они – секрет; ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной“. Тут, на эти две строки письма упала капля, и Чернышевский должен был повторить расплывшиеся буквы. Была ли то слеза, исторгнутая из глаз этого мужественного человека мыслью о том, что все это – мечты, которым никогда не придется исполниться, что его литературная карьера закончена, и что никогда ему не удастся осуществить грандиозных замыслов, копошившихся в его мозгу? Кто ответит на этот вопрос?» (Стеклов 1928: II, 378, примеч. 1).
на которые упала капля (или капли).
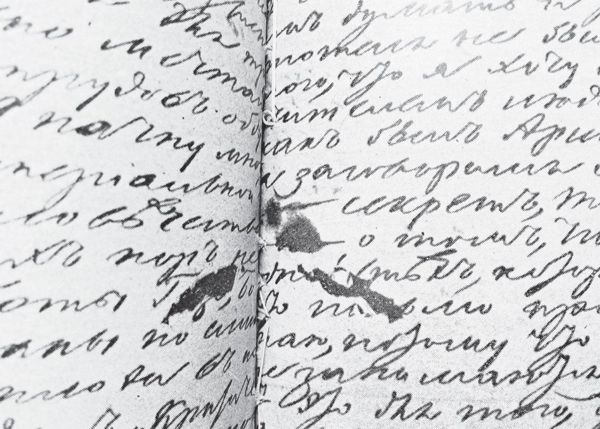
–403
… второе письме к жене… — Имеется в виду второе из задержанных писем Чернышевского к жене, датированное 7 декабря 1862 года. См.: Стеклов 1928: II, 383–386; ЛН: II, 414–416.
–404
«Копия с довольно любопытного письма Чернышевского, – карандашом приписал Потапов. – Но он ошибается: извиняться никому не придется». – В письме жене от 7 декабря 1862 года Чернышевский, в частности, писал: «Человек арестован, а обвинений против него нет <… > это, что называется, казус. <… > Теперь вот месяц думают над этим выводом, как тут быть, как поправить этот скверный казус, что арестовали человека, против которого нельзя найти никаких обвинений, – я читаю, перевожу, курю, сплю, а там думают. Сколько ни думай, нельзя ничего другого придумать, как только то, что надобно извиниться перед этим человеком» (Стеклов 1928: II, 385; ЛН: II, 415). В деле Чернышевского после копии этого письма подшита карандашная записка начальника Третьего отделения Потапова (см.: [4–375]): «Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к его жене, удержанного комиссией. Но он ошибается: извиняться никому не придется» (Стеклов 1928: II, 386; ЛН: II, 416, примеч. 1).
–405
«Что делать?», – и уже 15 января послал первую порцию Пыпину, через неделю послал вторую, и Пыпин передал обе Некрасову для «Современника», который с февраля был опять разрешен. Тогда же разрешено было и «Русское слово», после такого же восьмимесячного запрета; и, нетерпеливо ожидая журнальной поживы, опасный сосед уже обмакнул перо. – Согласно Стеклову, Чернышевский работал над романом «Что делать?» с 4 декабря 1862 года по 4 апреля 1863 года (Стеклов 1928: II, 120); по уточненным данным – с 14 декабря по 4 апреля (Чернышевская 1953: 274). 15 января 1863 года Потапов передал начало романа следственной комиссии; 26 января рукопись была послана обер-полицмейстеру для передачи А. Н. Пыпину, с правом напечатать ее «с соблюдением установленных для цензуры правил» (Лемке 1923: 235).
После петербургских пожаров (см.: [4–368]) правительство предприняло ряд репрессивных мер. Как писал официальный историк царствования Александра II, «высочайше учрежденной следственной комиссии не удалось открыть поджигателей, непосредственных виновников пожаров, но дознанием обнаружено вредное направление учения, преподаваемого литераторами и студентами мастеровым и фабричным в воскресных школах <… > выяснены также сношения с лондонскими эмигрантами многих сотрудников некоторых из петербургских журналов, а потому высочайше повелено: все воскресные школы закрыть впредь до пересмотра положения о них, а издание журналов „Современник“ и „Русское слово“ приостановить на восемь месяцев» (Татищев 1903: 400; Лемке 1904: 179–180). Первая книжка возобновленного «Современника» вышла в свет 19 февраля 1863 года (Там же: 272).
«опасный сосед» вызывает ассоциацию с одноименной комической поэмой В. Л. Пушкина и тем самым характеризует Писарева как «нового Буянова», ее «неистового» героя, устроившего побоище в борделе, поскольку он тоже постоянно буянит и дерется, но только не в лупанарии, а в литературе.
–406
28-го числа <… > он начал голодовку: голодовка была еще тогда в России новинкой, а экспонент попался нерасторопный. Караульные заметили, что он чахнет, но пища как будто съедается… Когда же дня через четыре, пораженные тухлым запахом в камере, сторожа ее обыскали, то выяснилось, что твердая пища пряталась между книг, а щи выливались в щели. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, врач при крепости, осмотрев арестанта, нашел, что он бледен, язык довольно чистый, пульс несколько слабее <… > Тем временем <… > стали давать капли для возбуждения аппетита; два раза он их принимал, а потом <… > объявил, что не будет более, ибо не ест не по отсутствию аппетита, а по капризу. – Подробности о голодовке Чернышевского, которая, как пишет Лемке, явилась «совершенною новостью» для властей (Там же: 237), приведены в записках Ивана Борисова: «Дело было так: нижние чины караула да и сам смотритель заметили, что арестант под № 9, т. е. Чернышевский, заметно бледнеет и худеет. На вопрос о здоровье он отвечал, что совершенно здоров. Пища, приносимая ему, по-видимому, вся съедалась. Между тем, дня через четыре караульные доложили смотрителю, что в камере № 9 начал ощущаться какой-то тухлый запах. Тогда, во время прогулки Чернышевского в садике, осмотрели всю камеру и оказалось, что твердая пища им пряталась, а щи и суп выливались… Стало очевидно, что Чернышевский решил умереть голодною смертью…» (Борисов 1901: 577; Лемке 1923: 237; НГЧ: 284). «Состоявший при крепости доктор Окель 3 февраля донес коменданту, что Чернышевский голодает, вследствие чего „заметно слаб, цвет лица у него бледный, пульс несколько слабее обыкновенного, язык довольно чистый; прописанные ему капли для возбуждения аппетита он принимал только два раза, а 3-го числа объявил, что не намерен принимать таковые, и что он воздерживается от пищи не по причине отсутствия аппетита, а по своему капризу“» (Лемке 1923: 237).
4–407
… в этот же час Некрасов, проездом на извозчике от гостиницы Демута к себе домой, на угол Литейной и Бассейной, потерял сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием «Что делать?». – О потере и находке пакета с рукописью «Что делать?» подробно рассказывается в «Воспоминаниях» А. Я. Панаевой (Панаева 1972: 323–325). Кроме этого источника, Набоков использовал также текст объявления о пропаже, помещенного Некрасовым в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции»: «В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Б. Конюшенной от гостиницы Демут до угольного дома Капгера, а оттуда чрез Невский пр., Караванную и Симеоновский мост до дома Краевского, на углу Литейного и Бассейной, обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием „Что делать?“. Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского к Некрасову, тот получит пятьдесят руб. сер.» (Лемке 1923: 317, примеч. 1).
–408
6-го утром, «по неопытности в различении симптомов страдания», он голодовку прекратил и позавтракал. 12-го Потапов уведомил коменданта, что комиссия не может дозволить Чернышевскому свидание с женой, покамест он совершенно не поправится. На другой же день комендант донес, что Чернышевский здоров и вовсю пишет. – В письме Чернышевского коменданту Петропавловской крепости от 7 февраля 1863 года он выразил сожаление, что слишком рано приостановил голодовку «по неопытности в различении симптомов страдания», и заявил, что готов возобновить начатое, «с прежним намерением идти, если нужно, до конца» (Там же: 238; ЛН: II, 444).
«12 февраля 1863 года Потапов пишет коменданту, что согласно решения комиссии свидание с женой Чернышевскому в настоящее время дано быть не может по неудовлетворительному состоянию его здоровья, и что „разрешение последует в то время, когда он будет совершенно здоров“. Приказано объявить об этом Чернышевскому и доложить о состоянии его здоровья, чтобы сообщить об этом комиссии. На это комендант 13 февраля сообщает Потапову, что Чернышевский совершенно здоров и деятельно занимается переводом истории „Гервениса“ < sic!>. 18 февраля комиссия решила дать Чернышевскому свидание с женой в присутствии ее членов, и 23 февраля после 7½ месяцев перерыва Чернышевский увидал наконец свою жену» (Стеклов 1928: II, 386–387).
4–409
– на свое здоровье, на Пыпиных, на безденежье, и потом, сквозь слезы, стала смеяться над бородкой, отрощенной мужем, и, вконец расстроившись, принялась его обнимать. – О свиданиях Чернышевского с женой мы знаем со слов Пыпиных, огорченных тем, что Ольга Сократовна жаловалась Н. Г. на обиды, которые они ей якобы нанесли: «Да и о чем могла она ему рассказать, как не о том только, что постоянно терпит от нездоровья и от неприятностей» (Пыпина 1923: 58). Во время первого свидания 26 февраля 1863 года, по сообщению Е. Н. Пыпиной, Чернышевский «был очень весел, говорил все шутя, но очень похудел. Борода (говорит О. С.) у него потешная, а волосы на голове сделались не такие густые, как прежде» (Там же: 56).
–410
23 марта была очная ставка с Костомаровым. – Ошибка в датировке: очная ставка Чернышевского с Костомаровым была проведена 19 марта 1863 года (Лемке 1923: 315; Чернышевская 1953: 292).
4–411
«И подумать, – восклицает Стеклов, – что в это время он писал жизнерадостное „Что делать?“». – Перифразируется восклицание: «И подумать, что в это время душевного потрясения Чернышевский спокойно заканчивал свой роман „Что делать?“, проникнутый такою жизнерадостностью и верою в человека!» (Стеклов 1928: II, 427, примеч. 1).
4–412
«Современнике», рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой «нечто в высшей степени антихудожественное», наверное уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют за нее. – Набоков передает одно из возможных объяснений, почему цензура пропустила «Что делать?» в печать. «Носились слухи, – вспоминал А. М. Скабичевский, – что цензура разрешила печатание романа, рассчитывая, что, представляя собою нечто в высшей степени антихудожественное, роман наверное уронит авторитет Чернышевского, и песенка его будет спета. В майковском салоне хихикали и радостно потирали руки в предвкушении падения идола молодежи с его высокого пьедестала» (Скабичевский 1928: 248). Стеклов считал, что дело обстояло иначе и что цензор, получая рукопись из «всемогущей следственной комиссии» со всеми ее печатями и шнурами, ошибочно думал, будто высшие инстанции одобряют печатание романа (Стеклов 1928: II, 121).
–413
«легкие» сцены в романе: «Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу <… > Подняли они с Жюли шум, крик, гам… Принялись бороться, упали обе на диван… и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули». – Цитаты из «Что делать?» (Чернышевский 1939–1953: XI, 115).
4–414
… Зощенко: «После чаю… пришла она в свою комнату и прилегла. Вот она и читает в своей кроватке, только книга опускается от глаз, и думается Вере Павловне: что это последнее время стало мне несколько скучно иногда?» – См.: Там же: 166 («Третий сон Веры Павловны»). Об отношении Набокова к Зощенко см.: [4–75].
–415
«Долго они щупали бока одному из себя». – Там же: 140.
–416
Даже Герцен, находя, что «гнусно написано», тотчас оговаривался: «с другой стороны, много хорошего, здорового». – См. письмо Герцена к Н. П. Огареву от 29 (17) июля 1867 года: «Читаю роман Черныш< евского>. Господи, как гнусно написано, сколько кривлянья и < 2 нрзб>, что за слог! Какое дрянное поколенье, которого эстетика этим удовлетворена. И ты, хваливший, – куртизан! Мысли есть прекрасные, даже положения – и всё полито из семинарски-петербургски-мещанского урыльника à la Niederhuber» (Герцен 1954–1966: XXIX: 1, 157). В письме Огареву от 8 августа (27 июля) 1867 года Герцен писал: «Когда ты начнешь роман Черныш< евского>? Это очень замечательная вещь – в нем бездна отгадок и хорошей и дурной стороны ультранигилистов. Их жаргон, их аляповатость, грубость, презрение форм, натянутость, комедия простоты, и – с другой стороны – много хорошего, здорового, воспитательного» (Там же: 167).
4–417
«фаланстером в борделе». – Ср. в письме Герцена к Огареву от 8 августа (27 июля) 1867 года: «Он оканчивает фаланстером, борделью – смело. Но, боже мой, что за слог, что за проза в поэзии…» (Там же).
4–418
… его веселый вечерний бал, основанный на свободе и равенстве отношений (то одна, то другая чета исчезает и потом возвращается опять), очень напоминает <… > заключительные танцы в «Доме Телье». – Имеется в виду картина коллективного веселья жителей Хрустального дворца из утопического «Четвертого сна Веры Павловны»: «Шумно веселится в громадном зале половина их, а где ж другая половина? „Где другие? – говорит светлая царица, – они везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но больше, больше всего – это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела, они уходили, они приходили; они уходили – это я увлекала их, здесь комната каждого и каждой – мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались – это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я“» (Чернышевский 1939–1953: XI, 283).
«Заведение Телье» («La Maison Tellier», 1881), действие которой начинается и заканчивается в публичном доме. Хозяйка заведения вместе со всеми девицами уезжает в деревню на первое причастие своей племянницы, а по возвращении устраивает веселый бал в честь праздника: «Время от времени одна из девиц исчезала, а когда ее начинали разыскивать, нуждаясь в визави для кадрили, вдруг замечали, что не хватало также одного из кавалеров. – Откуда вы? – шутливо спросил г-н Филипп как раз в ту минуту, как г-н Пемпесс возвращался в салон с Фернандой. – Мы ходили смотреть, как почивает г-н Пулен, – отвечал сборщик податей. Это словцо имело огромный успех, и чтобы посмотреть, как почивает г-н Пулен, все поочередно подымались наверх с той или другой из девиц, которые в эту ночь были исключительно покладисты» (Мопассан 1958: I, 280).
–419
«Зеленый Шум» («терпи, покуда терпится…»), и зубоскальный разнос «Князя Серебряного»… – В мартовском номере «Современника» были напечатаны две главы «Что делать?» и сразу за ними – стихотворение Некрасова «Зеленый шум» с его знаменитой концовкой: «Слабеет дума лютая, / Нож валится из рук, / И все мне песня слышится / Одна – в лесу, в лугу: / „Люби, покуда любится, / Терпи, покуда терпится, / Прощай, пока прощается, / И – Бог тебе судья!“» (Некрасов 1981–2000: II, 143). Анонимная издевательская рецензия на исторический роман А. К. Толстого «Князь Серебряный», автором которой был М. Е. Салтыков-Щедрин, появилась в следующем, апрельском номере журнала (Отд. II. С. 295–306). Мартовский и апрельский номера «Современника» составляли один том (XLV), в библиотеках обычно брошюровались вместе без титульных листов, и, наверное, Набоков просто этого не заметил.
–420
… вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, – и ни одна вещь Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления. – Ср. в «Литературных воспоминаниях» Скабичевского: «… мы читали роман чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на устах, с каким читают богослужебные книги» (Скабичевский 1928: 249; Стеклов 1928: II, 135). По словам Стеклова, даже «дышащий злобой к Чернышевскому реакционер П. Цитович в своей знаменитой брошюре „Что делали в романе «Что делать?»“ принужден со скрежетом зубовным признать, что в смысле популярности среди молодежи ни один из классиков русской литературы не мог сравняться с романом Чернышевского» (Там же). В предисловии к упомянутой Стекловым брошюре профессор-юрист Петр Павлович Цитович (1843–1913) писал: «За 16 лет пребывания в университете мне не удавалось встретить студента, который бы не прочел знаменитого романа еще в гимназии, а гимназистка 5–6 класса считалась бы дурой, если б не познакомилась с похождениями Веры Павловны. В этом отношении сочинения, например, Тургенева или Гончарова, – не говоря уже о Гоголе, Лермонтове и Пушкине, – далеко уступают роману „Что делать?“» (Цитович 1879: V).
–421
«Русского слова» статью «Мысли о русских романах», причем сенат уведомил генерал-губернатора, что это не что иное, как разбор романа Чернышевского, с похвалами сему сочинению и подробным развитием материалистических идей, в нем заключающихся. – Свои статьи, написанные в крепости, Писарев отсылал через коменданта крепости петербургскому генерал-губернатору, князю Александру Аркадьевичу Суворову (1804–1882), который направлял их на просмотр в следственную комиссию сената. Если в статье не обнаруживалось ничего связанного с делом Писарева, ее посылали обратно в канцелярию Суворова, оттуда возвращали коменданту, который передавал ее редактору «Русского слова» для прохождения цензуры в обычном порядке. 8 октября 1863 года Суворов прислал в сенат статью «Мысли о русских романах», фактически рецензию на «Что делать?», относительно которой его через неделю уведомили, что «это сочинение, заключающее по преимуществу разбор романа содержащегося под стражею литератора Чернышевского, под заглавием „Что делать?“, и преисполненное похвал сему сочинению с подробным развитием материалистических и социальных идей <… > в случае напечатания его, может иметь вредное влияние на молодое поколение» (Лемке 1923: 576). Получив такое заключение сената, Суворов в секретном письме уведомил о нем министра внутренних дел Валуева, который распорядился статью запретить (Быховский 1936: 678–679). Она появилась в «Русском слове» в расширенной редакции под названием «Новый тип» лишь два года спустя, в октябре 1865 года, когда ее актуальность несколько ослабла, а Чернышевский уже был в Сибири; в 1867 году была напечатана под названием «Мыслящий пролетариат».
–422
Для характеристики Писарева указывалось, что он подвергался умопомешательству, от коего был пользуем: дементия меланхолика, – четыре месяца в 59-м году провел в сумасшедшем доме. – Набоков цитирует определение сената по делу Писарева, оглашенное 5 ноября 1864 года, где отмечалось: «Писарев во время производства дела сего ходатайствовал о смягчении ему наказания, оправдывая себя тем, что преступление его было плодом минутного увлечения и что он – человек впечатлительный до такой степени, что даже подвергался умопомешательству, от коего и был пользуем» (Лемке 1923: 589–590). Как отметил первый биограф Писарева Е. А. Соловьев (1863–1905), он «страдал dementia melancholica. Сущность его болезни сводилась к мрачному состоянию души, вызвавшему две попытки самоубийства, в абсолютной подозрительности и потере сознания времени» (Соловьев 1894: 67). В самом конце 1859 года Писарева поместили в частную психиатрическую больницу доктора Штейна, откуда он несколько месяцев спустя бежал через окно (Скабичевский 1928: 137–139).
‘меланхолическое слабоумие/помешательство’) – вышедший из употребления психиатрический термин. Так в конце XIX века иногда называли душевную болезнь, похожую на то, что теперь называется меланхолической депрессией.
4–423
… – Скабичевский, познакомившийся с Писаревым в Санкт-Петербургском университете, вспоминал, что тот записывал лекции «бисерным почерком в красивеньких, украшенных декалькоманиею тетрадочках…» (Скабичевский 1928: 94). Волынский перенес это наблюдение на гимназические годы Писарева: «Учебники его всегда содержались в самом исправном виде, а каждая его тетрадочка в красивой, радужной обертке <… > занимала определенное место в его столе и сумке» (Волынский 1896: 484).
–424
… Писарев вдруг бросал спешную работу, чтобы тщательно раскрашивать политипажи в книгах, или, отправляясь в деревню, заказывал портному красно-синюю летнюю пару из сарафанного ситца. – О безумных поступках Писарева после его побега из больницы мы знаем из воспоминаний Скабичевского: «То, например, вдруг ни с того ни с сего, бросив спешную работу, увлекался он ребяческим занятием раскрашиванья красками политипажей в книгах; то, отправляясь летом в деревню, заказывал портному летнюю пару из ситца ярких колеров, из каких деревенские бабы шьют сарафаны» (Скабичевский 1928: 212; ср. несколько отличную редакцию: Там же: 139).
4–425
– Ср.: «Однажды, за ужином в товарищеском кружке, Писарев, все время казавшийся скучным и молчаливым, быстро встал со своего места <… > и поднял кверху руку. Все разом взглянули на него и, весело настроенные, ожидали блестящего спича. Но Писарев вдруг обвел своих товарищей какими-то мутными глазами и стал медленно опускаться на пол» (Волынский 1896: 494).
4–426
… — «В другой раз он вдруг стал раздеваться в гостях при всеобщем переполохе» (Там же: 501–502; ср.: Скабичевский 1928: 212). Набоков надел на Писарева бархатный пиджак, следуя за Волынским, заметившим, что Тургеневу, который один раз виделся с Писаревым, «запомнилась его изящная фигура в бархатном пиджаке» (Волынский 1896: 502). На самом деле Тургенев нигде не говорит, как был одет Писарев при их встрече. Пестрый жилет добавлен, видимо, для «рифмы» к крапчатому жилету табачника в первой главе (ср.: «… он ушел бы без всего, не окажись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами…» (193); о жилетном мотиве в «Даре» см.: Ivleva 2009; Leving 2011: 291–292). Клетчатые панталоны обычно ассоциируются с английским стилем одежды (ср., например, в стихотворении Мандельштама «Домби и сын» (1914): «И клетчатые панталоны, / Рыдая, обнимает дочь»), но их нередко носят и персонажи русских романов. Так, например, в «Братьях Карамазовых» черт является Ивану именно в старомодных клетчатых панталонах, которые «сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить» (Достоевский 1972–1990: XV, 70). В первом же предложении романа «Отцы и дети» упомянуты клетчатые панталоны, в которых Николай Петрович Кирсанов приехал на станцию встречать сына (Тургенев 1978–2014: VII, 7). В романе Тургенева «Новь» «на самый лучший английский манер» одет Семен Петрович Калломейцев, «настоящий петербургский „гранжанр“ высшего полета»: «цветной кончик белого батистового платка торчал маленьким треугольником из плоского бокового кармана пестренькой жакетки; на довольно широкой черной ленточке болталась одноглазая лорнетка; бледно-матовый тон шведских перчаток соответствовал бледно-серому колеру клетчатых панталон» (Там же: IX, 161). Последнюю цитату Набоков привел в лекции о Тургеневе как пример изобразительного мастерства писателя, которому, по его словам, отлично удавались «маленькие цветные карикатуры» (Nabokov 1982b: 69).
«Вне закона» (1873), жулик, нигилист и провокатор Антизитров: «Одет несколько аляповато: в бархатном пиджаке, в пестром жилете и в полосатых брюках» (Крестовский 1876: 295).
–427
… есть комментаторы, которые зовут Писарева «эпикурейцем», ссылаясь, например, на его письмо к матери, – невыносимые, желчные, закушенные фразы о том, что жизнь прекрасна… — Имеется в виду Е. А. Соловьев (см.: [4–422]), который в биографии Писарева цитирует фразу из его письма к матери: «Жизнь прекрасна, нужно ею наслаждаться, и я нахожу справедливым, чтобы каждый руководился в своем поведении этим прекрасным правилом», и комментирует: «Ясно, что и в статьях, и в письмах, и в разговорах Писарев проводил в это время те же взгляды эпикурейского эгоизма» (Соловьев 1894: 83). В начале 1860-х годов, до ареста, замечает далее биограф, Писарев «является перед нами в образе ликующего эпикурейца, которому действительно сам черт не брат» (Там же: 84).
–428
… для обрисовки его «трезвого реализма» приводится <… > совершенно безумное его письмо из крепости к незнакомой девице, с предложением руки: «та женщина, которая согласится осветить и согреть мою жизнь, получит от меня всю ту любовь, которую оттолкнула Раиса, бросившись на шею своему красивому орлу». – Как пишет Соловьев, «сидя в крепости, Писарев вообще довольно старательно обсуждал матримониальные проекты. <… > У нас сохранилось даже несколько писем его к некоей Лидии Осиповне, девушке, Писареву совершенно незнакомой, о которой он знал лишь из писем сестры и матери. Со своей обычной поразительной наивностью предлагает Лидии Осиповне руку и сердце, так сказать, заочно…» (Там же: 100). Эти письма во втором и третьем изданиях книги Соловьева приведены полностью (Там же: 100–106; цитируемый пассаж – Там же: 102).
– то есть Раиса Коренева-Гарднер (см.: [4–47]).
–429
«Правительство, – говорит Страннолюбский, – с одной стороны дозволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой – дозволяя Писареву, его соузнику, производить об этом же романе статьи, действовало вполне сознательно… – Здесь Страннолюбский и Набоков грешат против истины: единственная статья Писарева о «Что делать?», написанная во время заключения Чернышевского в крепости, сначала не была пропущена цензурой (см.: [4–421]), а за ее публикацию в 1865 году журналу «Русское слово» было вынесено строгое предупреждение.
4–430
… Чернышевский продолжал обстоятельно кипеть и издеваться, обзывая комиссию «шалунами» и «бестолковым омутом, который совершенно глуп». – В записках коменданту Петропавловской крепости Сорокину от 10 и 12 марта 1863 года (Лемке 1923: 299, 305; ЛН: II, 446–447).
4–431
… Костомарова повезли в Москву, и там мещанин Яковлев, его бывший переписчик, пьяница и буян, дал важное показание <… > переписывая по случаю летнего времени в беседке сада, он будто бы слышал, как Николай Гаврилович и Владислав Дмитриевич, ходя между собой под руку (черточка верная!) говорили о поклоне от их доброжелателей барским крестьянам… – Цитируются и перифразируются ложные показания московского мещанина Петра Васильевича Яковлева, данные жандармскому капитану Чулкову. Ср.: «Летом 1861 года, около июля месяца, будучи переписчиком бумаг и разных сочинений у г. Всеволода Костомарова и занимаясь у него постоянно, я очень часто видал у него из Петербурга какого-то знаменитого писателя под именем Николая Гавриловича Чернышевского, и переписывая бумаги по случаю летнего времени в беседке сада дома г. Костомарова, когда они, ходя между собою под руку и разговаривая между собою, произносили слова, из которых мне удалось запомнить следующие фразы, произнесенные г. Чернышевским: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля“» (Лемке 1923: 293; Стеклов 1928: II, 418).
–432
… получил за это пальто, которое пропил так шумно в Твери, что был посажен в смирительный дом… — Ср.: «Жалкий пьянчужка, купленный за пальто, подаренное ему Костомаровым, и за 25 рублей, выданных ему в награду правительством <… > не вполне оправдал доверие начальства… Обрадовавшись случаю выпить на казенный счет и возомнив себя отныне великим государственным деятелем, Яковлев по дороге в Петербург напился на станции Тверь, учинил буйство, был арестован и отправлен в Москву, где местное мещанское общество, давно знавшее этого хулигана, засадило его в смирительный дом на четыре месяца» (Там же: 419, 420).
–433
<… > Костомарова, Чернышевский не совсем удачно сказал, что только раз был у него, да не застал… — Согласно Стеклову, этот «крупный промах» Чернышевский совершил на допросе в следственной комиссии 16 марта, а не на очной ставке с Костомаровым три дня спустя (Там же: 426). В ходе последующего разбирательства Чернышевскому пришлось признать, что он посещал Костомарова три раза.
4–434
… потом добавил с силой: «Поседею, умру, не изменю моего показания». – Как пишет Лемке, после второй очной ставки с Костомаровым 12 апреля 1863 года Чернышевский, обратясь к комиссии, сказал: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю» (Лемке 1923: 332; Стеклов 1928: II, 428).
–435
– Речь идет о допросе 16 марта 1863 года. Ср.: «… показание относительно воззвания к крестьянам написано дрожащим и нервным почерком…» (Там же: 426, примеч. 3).
4–436
… Плещеев, мирный поэт, «блондин во всем»… — Это апокрифическое высказывание Достоевского о Плещееве (см.: [4–392]) приводит, без ссылки на какой-либо источник, П. И. Сакулин: «Он прекрасный поэт, – саркастически заметил о Плещееве Достоевский, – но какой-то он во всем блондин» (Сакулин 1910: 490).
4–437
– пушкинская формула: «Подите прочь, какое дело / Поэту мирному до вас» («Поэт и толпа», 1828; Пушкин 1937–1959: III, 142).
«диких невежд» сената определение было передано «седым злодеям» Государственного совета, вполне присоединившимся, а затем пошло к государю, который его и утвердил, наполовину уменьшив срок каторги. 4 мая 64-го г. приговор был объявлен Чернышевскому… — Ср.: «… сенат постановил: отставного титулярного советника Николая Чернышевского 35 лет лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет и затем поселить в Сибири навсегда. <… > Из сената по тогдашнему порядку дело перешло в Государственный Совет, который полностью присоединился к сенатскому определению. После того оно было представлено царю, который 7 апреля это определение утвердил с сокращением срока каторжных работ наполовину <… > 4 мая приговор был объявлен Чернышевскому при открытых дверях» (Стеклов 1928: II, 462–463).
«Дикими невеждами» и «седыми злодеями» сенаторы и члены Государственного совета были названы в статье Герцена о приговоре Чернышевскому, напечатанной в «Колоколе» (см.: [4–38]). Ср.: «Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев Государственного совета… А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!» (Герцен 1954–1966: XVIII, 221).
4–438
… 19-го, часов в 8 утра, на Мытнинской площади, он был казнен. – Описание гражданской казни Чернышевского по большей части представляет собой монтаж цитат и перифраз из нескольких рассказов очевидцев «печальной церемонии», а также из справки о ней Третьего отделения, с добавлением нескольких деталей, подчеркивающих гротескный характер сцены. Основным источником послужила дневниковая запись поручика Владимира Константиновича Гейнса (1839–1888; в эмиграции жил под именем «Вильям Фрей»), опубликованная Н. В. Рейнгардтом и приведенная Лемке и Стекловым (Рейнгардт 1905: 460–462; Лемке 1923: 492–494; Стеклов 1928: II, 482–485). Кроме того, Набоков использовал рассказы других очевидцев казни, указанные и отчасти процитированные у Стеклова, – В. Я. Кокосова, А. Н. Тверитинова, А. М. Венского (в записи В. Г. Короленко), В. Н. Никитина, М. П. Сажина. Любопытно, что до Набокова сходным способом описал казнь Вас. Е. Чешихин-Ветринский в очерке «19-е мая 1864 года» (см.: Ветринский 1923: 169–174).
Мытнинская площадь (в первой половине XIX века Зимняя Конная площадь; ныне не существует) находилась в Рождественской части Петербурга (так называемые «Пески»), близ Дегтярной и 5-й Рождественской улиц, и с XVIII века служила местом публичного наказания преступников. В интернете ее часто путают с современной Мытнинской площадью на Петроградской стороне.
–439
– Ср.: «Утро было ослизлое, скверное, с нависшими тучами, с мельчайшим дождевым туманом, охватившим нас сыростью и слякотью. <… > Дождь моросил постоянно, и эшафот, с выдающимся столбом, блестел, как вымытый. Появились конные жандармы. Помню отчетливо, что они окружили эшафот ранее привоза Чернышевского» (Кокосов 1905: 160). «Моросил дождь» (Тверитинов 1906: 7). «Высокий черный столб с цепями…» (Рейнгардт 1905: 460; Стеклов 1928: II, 483). «Вдруг полил частый дождь. Мигом поднялись и распустились зонтики, превратившиеся почти в сплошную крышу» (Никитин 1906: 86).
– по-видимому, неологизм или оставшаяся не замеченной опечатка в машинописи, «щ» вместо правильного «т», ибо в русском языке есть глагол «слякотить», но не «слякощить». Ср.: «Моросило сверху, слякотило снизу» (Крестовский 1899: 1).
4–440
<… > Чернышевский в пальто и два мужиковатых палача; все трое скорым шагом прошли по линии солдат к помосту. – Ср.: «… карета <… > подъехала к солдатам <… > вслед за тем три человека пошли быстро по линии солдат к эстраде: это был Чернышевский и два палача» (Рейнгардт 1905: 461; Стеклов 1928: II, 483) «… на эшафот поднялся Н. Г. Чернышевский в пальто…» (Сажин 1925: 17; НГЧ: 287).
–441
«Уберите зонтики!» – «… жандармы начали теснить народ <… > Раздались сдержанные крики передним: „Уберите зонтики!“» (Рейнгардт 1905: 461; Стеклов 1928: II, 483).
–442
– Ср.: «… началось чтение приговора <… > Сам же Чернышевский, знавший его еще прежде, менее, чем всякий другой, интересовался им» (Рейнгардт 1905: 461; Стеклов 1928: II, 483–484); «Во время чтения приговора Чернышевский стоял более нежели равнодушно, беспрестанно поглядывал по сторонам, как бы ища кого-то, и часто плевал, что дало повод <… > литератору Пыпину выразиться громко, что Чернышевский плюет на все» (Из справки Третьего отделения – Там же: 487).
4–443
«сацалических идей», Чернышевский улыбнулся… – «Чиновник громко стал читать приговор, среди мертвой тишины. Читал он плохо <… > а в одном месте поперхнулся и едва выговорил „сацалических идей“. Чернышевский улыбнулся» (Никитин 1906: 86; Стеклов 1928: II, 483, примеч. 3).
4–444
… кого-то узнав в толпе, кивнул, кашлянул, переступил: из-под пальто черные панталоны гармониками падали на калоши… – «Он, по-видимому, искал кого-то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую-то сторону раза три» (Рейнгардт 1905: 461; Стеклов 1928: II, 484); «Николай Гаврилович был одет в темное пальто <… > и черные брюки» (Кокосов 1905: 161); на Чернышевском были «большие высокие калоши, известные под именем ботинок» (Волховский 1930: 108).
–445
«государственный преступ» (последний слог не вышел). – Палач «надел ему на шею деревянную черную доску с надписью «государственный преступник» (Тверитинов 1906: 6; Стеклов 1928: II, 483, примеч. 2). Набоков, по всей вероятности, видел иллюстрации к книге Тверитинова, стилизованные художницей Т. Н. Гиппиус (1877–1957) под немудреные зарисовки очевидца казни (см. иллюстрацию). На одной из них в слове «преступник» на доске с надписью явно недостает нескольких букв.

–446
плохо подпиленную шпагу. – Ср.: «Палач <… > быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского поставил на колени, затем взял шпагу, переломил ее над головою Николая Гавриловича и обломки бросил в разные стороны» (Сажин 1925: 17; Стеклов 1928: II, 484, примеч. 1). «Наконец, чтение кончилось. Палачи опустили его на колени. Сломали над головой саблю…» (Рейнгардт 1905: 461; Стеклов 1928: II, 484). «По окончании чтения <… > его поставили на колени и палач переломил над головой его надломленную [надпиленную. – Ю. С.] уже шпагу» (Там же: 484; Тверитинов 1906: 7). «Он казался выше среднего роста <… > с бледным, сухощавым лицом, белым широким лбом и длинными густыми волосами, закинутыми назад <… > Особенность его лица, бросавшаяся в глаза и запечатлившаяся в памяти, – ширина лобной части лица по сравнению с нижней лицевой частью, так что лицо казалось суженным книзу» (Кокосов 1905: 161; Стеклов 1928: II, 483, примеч. 1). Длинные светло-русые волосы Чернышевского отмечены в записках С. Г. Стахевича (Стахевич 1928: 62).
По точному наблюдению О. А. Проскурина, плохо подпиленная шпага – это деталь не из свидетельств о гражданской казни Чернышевского, а из воспоминаний декабристов о церемонии их «шельмования». Так, И. Д. Якушкин вспоминал: «Я стоял на правом фланге, и с меня началась экзекуция. Шпага, которую должны были переломить надо мной, была плохо подпилена; фурлейт ударил меня ею со всего маху по голове, но она не переломилась: я упал. „Ежели ты повторишь еще раз такой удар, – сказал я фурлейту, – так ты убьешь меня до смерти“» (Якушкин 1908: 93). Без этой детали не обходились почти все описания «экзекуции», как документальные, так и художественные. См., например, в романе Д. С. Мережковского «14 декабря (Николай Первый)» (1918): «Осужденным велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, ордена и бросали в огонь. Над головами ломали шпаги. Подпилили их заранее, чтобы легче переламывать; но иные были плохо подпилены, и осужденные от ударов падали» (Мережковский 1994: 263). Набокову наверняка была известна книга его парижского знакомого М. О. Цетлина (Амари) о декабристах, в которой обряд их «гражданской смерти и деградации» описывался так: с офицеров «срывали мундиры и ордена и бросали в разложенные и зажженные костры. Фурлейт ломал над головою осужденного шпагу, предварительно подпиленную. Однако шпаги были подпилены плохо, и трепанированный Якубович едва не умер от удара» (Цетлин 1933: 298). Исподволь связывая Чернышевского с декабристами, Набоков несколько облагораживает его образ и показывает, что для него, как сказано в третьей главе романа, «такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей» (383).
–447
– «… кисть руки казалась очень белой, при резкой разнице с темным рукавом пальто» (Кокосов 1905: 161); «… кисть исхудавшей в заключении руки казалась очень белой на темном рукаве пальто <… > многим казалось потом, что не меньше четверти часа провел „преступник“ у позорного столба» (Ветринский 1923: 171); «По рассказу Сажина, Чернышевский простоял у столба около четверти часа» (Стеклов 1928: II, 484, примеч. 1; ср.: Сажин 1925, 17).
–448
Дождь пошел сильнее: палач поднял и нахлобучил ему на голову фуражку, – и неспешно, с трудом, – цепи мешали, – Чернышевский поправил ее. – «Дождь пошел сильнее» (Короленко 1908: 96); «В это время пошел очень сильный дождь, палач надел на него шапку. Чернышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько позволяли ему руки…» (Рейнгардт 1905: 461; Стеклов 1928: II, 484).
–449
Слева, за забором, виднелись леса строившегося дома; с той стороны рабочие полезли на забор, было слышно ерзанье сапог; влезли, повисли и поругивали преступника издалека. – А. М. Венский вспоминал: «… рабочие расположились за забором не то фабрики, не то строящегося дома, и головы их высовывались из-за забора. Во время чтения чиновником длинного акта <… > публика за забором выражала неодобрение виновнику и его злокозненным умыслам» (Короленко 1908: 95; Стеклов 1928: II, 486).
–450
– «В эту минуту из среды интеллигентной публики полетели букеты цветов» (Короленко 1908: 96). «… было несколько покушений бросить цветы <… > но все неудачны: цветы перехватывали на лету временные представители народа, т. е. переодетые полицейские» (Тверитинов 1906: 7; Стеклов 1928: II, 484). «Букет был крупный и, лежа на земле, блестел красно-розовым цветом» (Кокосов 1905: 162). «Букеты и венки градом полетели на эшафот. Чернышевский улыбался, а полицейские тщетно пытались ловить руки бросавших цветы <… > Оглянувшись вокруг, я увидел множество валявшихся в грязи букетов и венков…» (Никитин 1906: 87; Стеклов 1928: II, 485).
–451
Стриженые дамы в черных бурнусах метали сирень. – В справке Третьего отделения сообщалось: «Замечено много дам стриженых (нигилисток); все они были в черных платьях и черных же башлыках и старались пробиться как можно ближе к эшафоту» (Там же: 487). Замена черных башлыков (съемных капюшонов с двумя длинными концами) на черные бурнусы (широкие плащи с большим откидным воротником) обусловлена, по-видимому, эвфоническими соображениями: благодаря ей возникает тройная аллитерация (СтРижеНые/буРНуСах/СиРеНь), подсказывающая, что сирень (под)брошена СиРиНым. С точки зрения историко-культурной, однако, замена представляется ошибочной. В середине XIX века бурнус – обычная, социально не маркированная часть дамского гардероба. Р. М. Кирсанова предваряет статью о нем цитатой из пьесы А. Н. Островского «Старый друг лучше новых двух» (1860): «Пульхерия Андревна. Ведь уж все нынче носят бурнусы, уж все; кто же нынче не носит бурнусов?» (Кирсанова 1995: 54). С другой стороны, женщины начинают носить башлык – ранее исключительно мужской капюшон – только в 1860-х годах, когда в «передовую» моду входит короткая стрижка, и он воспринимается как атрибут «нигилисток». Так, в 1866 году временный нижегородский губернатор предписал своей администрации обратить самое пристальное внимание на «особого рода костюм, усвоенный так называемыми нигилистками и всегда почти имеющий следующие отличия: круглые шляпы, скрывающие коротко остриженные волосы, синие очки, башлыки и отсутствие кринолина» (Отечественные записки. 1866. № 12. С. 202). Критикуя писателя М. В. Авдеева за поверхностное изображение «новой женщины» в романе «Между двух огней», П. Н. Ткачев писал в своем журнале «Дело»: «… г. Авдеев вообразил, что <… > достаточно изобразить женщину с сильными стремлениями к самостоятельности, женщину, покидающую родительский дом и заводящую швейную мастерскую, одевающуюся скромно, неуважающую роскоши, читающую книжки и носящую башлык, чтобы и вышла новая женщина. Нет, этого немножко мало. Действительно, новая женщина не терпит пассивной зависимости <… > читает разного рода книжки и носит башлык; но… мы не считаем эти особенности чем-то существенным» (Дело. 1868. № 10. Современное обозрение. С. 18).
–452
Студенты бежали подле кареты, с криками: «Прощай, Чернышевский! До свиданья!» Он высовывался из окна, смеялся, грозил пальцем наиболее рьяным бегунам. – «… кучки людей человек в 10 догнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был сигнал для того, чтобы началась овация. Этот сигнал подал один молодой офицер; снявши фуражку, он крикнул: „прощай, Чернышевский“; этот крик был немедленно поддержан другими и потом сменился еще более колким словом „до свидания“. Он слышал этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отвечал поклонами. <… > Все ринулись догонять карету и присоединиться к кричащим. <… > Поклонившись еще раз, с самою веселою улыбкою (видно было, что уезжал в хорошем настроении духа) он погрозил пальцем» (Рейнгардт 1905: 461–462; Стеклов 1928: II, 485).
–453
«Выпьем мы за того, кто „Что делать“ писал…» – цитируется куплет популярной в конце XIX века студенческой песни «Золотых наших дней…» с припевом: «Проведемте ж, друзья / Эту ночь веселей, / Пусть студентов семья / Соберется тесней!» «Ни одна вечеринка не обходилась <… > без известной студенческой песни, в которой говорилось: «Выпьем мы за того, / Кто „Что делать“ писал, / За героев его, / За его идеал» (Стеклов 1928: II, 556).
–454
Легко и свободно следовать категорическому императиву общей пользы, вот «разумный эгоизм», находимый исследователями в «Что делать?». – «Эгоизм» Чернышевского и его последователей, пишет Стеклов, «прежде всего разумен, и выражается он в том, что они легко и свободно, без всякого принуждения, следуют велениям „категорического императива“ общей пользы» (Стеклов 1928: I, 291).
–455
… домысел Каутского, что идея эгоизма связана с развитием товарного производства… — Немецкий социалист Карл Каутский (Karl Kautsky, 1854–1938) в брошюре «Этика и материалистическое понимание истории» («Ethic und materialistische Geschichtsauffassung», 1906) писал, что развитие товарного производства и конкуренции ведет к уничтожению всех социальных инстинктов, и человек начинает видеть «в эгоизме единственный естественный человеческий инстинкт» (Каутский 1906: 103; Стеклов 1928: I, 306, примеч. 1).
–456
… заключение Плеханова, что Чернышевский все-таки «идеалист», так как у него получается, что массы должны догнать интеллигенцию из расчета, расчет же есть мнение. – Г. В. Плеханов в работах о Чернышевском утверждал, что в своих исторических и социальных взглядах тот был идеалистом, поскольку исходил из принципа первичности сознания. По Чернышевскому, говорит Плеханов, двигателем исторического развития являются выделившиеся из толпы «люди высшего умственного развития», овладевающие истиной, а «отсталая масса мало-помалу нагоняет интеллигенцию, постепенно усваивая истины, открытые этой последней. <… > Но какие же причины заставляют отсталую массу догонять ушедшую вперед интеллигенцию? <… > Чернышевский и этот вопрос решает ссылкою на человеческую расчетливость: расчет заставит массу усвоить открытую интеллигенцией истину. „Мнение“ – и главным образом расчет „правит миром“. Это – опять чисто идеалистический взгляд» (Плеханов 1910b: 180, 181).
–457
Чернышевского перевели бы на поселение гораздо скорее, если бы не дело каракозовцев: на их суде выяснилось, что ему хотели дать возможность бежать и возглавить революционное движение – или хотя бы издавать в Женеве журнал… — Речь идет о деле Д. В. Каракозова, который 4 апреля 1866 года совершил покушение на жизнь Александра II, и арестованных вместе с ним его товарищей по революционным кружкам «Ад» и «Организация». Идейный вождь группы И. А. Худяков на следствии показал, что он предлагал устроить побег Чернышевского «за границу в Женеву для издания какого-нибудь демократического журнала» (Стеклов 1928: II, 512). В приговоре верховного суда отмечалось, что заговорщики готовили «освобождение из каторжных работ государственного преступника Чернышевского для руководства предполагавшеюся революциею и для издания журнала, так как роман этого преступника „Что делать?“ имел на многих из подсудимых гибельное влияние, возбудив в них нелепые противообщественные идеи» (Там же: 513).
–458
… причем, высчитывая даты, судьи нашли в «Что делать?» предсказание даты покушения на царя. <… > последняя часть романа подписана 4 апреля 63-го года, а ровно день в день три года спустя и произошло покушение. – Ср.: «Так как окончание романа помечено датой 4 апреля 1863 года, а покушение Каракозова на Александра II состоялось как раз 4 апреля 1866 года, то руководивший следствием по делу каракозовцев Муравьев-Вешатель решил, что Чернышевский заранее знал о подготовлявшемся террористическом акте» (Там же: 132, примеч. 2).
–459
«высказал, между прочим, что года через три он возвратится в Россию, потому что, кажется, в России, не теперь, а тогда, года через три, – (многозначительное и типичное для автора повторение), – нужно ему быть». – Не вполне точно цитируя «Что делать?», Набоков подгоняет хронологию романа к замеченному следствием совпадению дат. На самом деле Рахметов сообщает о своих планах на будущее только через год после отъезда за границу, который приурочен у Чернышевского к 1859 или 1860 году: «… говорил <… > что через год во всяком случае ему „нужно“ быть уже в Северо-Американских штатах, изучить которые более „нужно“ ему, чем какую-нибудь другую землю, и там он останется долго, может быть, более года, а может быть, и навсегда, если он там найдет себе дело, но вероятнее, что года через три он возвратится в Россию, потому что, кажется, в России, не теперь, а тогда, года через три-четыре, „нужно“ будет ему быть» (Чернышевский 1939–1953: XI, 209). Намеки здесь расшифровываются просто: Рахметов собирается сначала участвовать в Гражданской войне в США, а затем вернуться в Россию к началу революции, которая, как верил Чернышевский, должна произойти в 1864 или 1865 году.
–460
– и диалектическую: «Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов; апельсины ел в Петербурге, не ел в провинции, – видите, в Петербурге простой народ ест их, а в провинции не ест». – Рассказывая о юности Рахметова, Чернышевский пишет, что в семнадцать лет он «принял боксерскую диету: стал кормить себя <… > исключительно вещами, имеющими репутацию укреплять физическую силу, больше всего бифштексом, почти сырым» (Там же: 200). Написание «дьета» необычно; по старой орфографии слово писалось «дiэта». Цитату в кавычках см.: Tам же: 202.
41. Считается, что Достоевский имел в виду другую прокламацию под названием «Молодая Россия», распространявшуюся в мае 1862 года. Именно о ней говорилось в статье М. М. Достоевского «Пожары», которая должна была появится в журнале братьев Достоевских «Время», но была запрещена цензурой (см. комментарии Е. И. Кийко: Достоевский 1972–1990: XXI, 394).