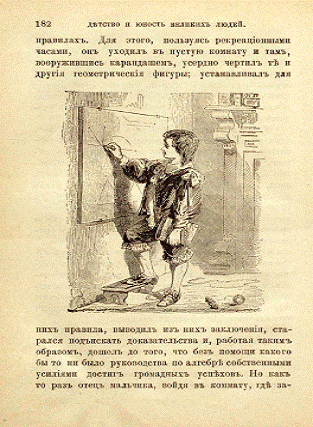
Блез Паскаль в метафизическом подтексте романа В. Набокова «Защита Лужина».
Рассматривается роль и характер обращенных к судьбе и учению Блеза Паскаля образов и деталей в набоковском романе «Защита Лужина». Анализируются связанные с ними тематические ряды. Показано, что тема Паскаля в романе Набокова представлена в контексте философских размышлений его старшего современника – Л. Шестова, и является частью набоковского с ним диалога-полемики.
Мы показали, что лейтмотивом, «ведущей мелодией», связанной с композиционным узлом произведения можно рассматривать комплекс тем трактующих аллегорически-психологическое превращение автора шахматной защиты Лужина в её жертвенного персонажа – черного шахматного коня. Соответственно в области подтекста эти темы раскрываются, подсвечиваются и дополняются введением в текст аллюзий на такие произведения-претексты как:
- книга Л. Кэрролла «Алиса в зазеркалье» с её образом Белого шахматного рыцаря (White Knight) – аллегорического авторского двойника,
- или «Медный Всадник» Пушкина, рассмотренный в контексте, или сквозь призму критических и художественных текстов Мережковского, Брюсова, Белого, представляющих эволюцию символа Медного Всадника,
- или история рыцаря-безумца в «Дон Кихоте» Сервантеса.
Вместе с тем, когда мы переходим к рассмотрению в произведении философского, смыслового подтекста мы видим, что в построении выразительной целостности этого совокупно-единого высказывания, вместе с «ведущей мелодией», разворачивающимся «лейтмотивом», автором задействуется целая гамма сопутствующих тематических звучаний. И в качестве поясняющей музыкальной аллегории хотел бы использовать образ симфонического звучания тем в самом романе и в актуализируемых в нем подтекстах. «Симфонического», т. е. созвучного (Симфония - др. -греч. συμφωνία — «созвучие, стройное звучание, стройность»). Отчасти этим термином будет подчеркнута и противоположность набоковского подхода выразительному методу Достоевского, который Бахтин описал как «полифонизм» (от «Полифония». лат. polyphonia, от др. -греч. πολυφωνία букв. «многозвучие»).
Или, иллюстрируя логику дальнейшего рассмотрения тайных механизмов романа, употребим соответствующую им шахматную аллегорию. Ходом коня мы проследовали от фактологии шахматно-аллегорической композиции в романе до предельных вершин метафизического подтекста, связанного с этим центральным в композиционном узоре романа ходом коня «с доски в пустоту». От прочтения аллегории жертвенно погибающего в защите Лужина черного шахматного коня изощренно воплотившейся в судьбе самого изобретателя этой защиты, до рассмотрения авторского полемического высказывания, скрытого в этих композиционно-аллегорических построениях, его реакции на активно обсуждавшиеся в начале прошлого века темы антропологического, религиозного и историософского характера связанные с символом «Медного Всадника».
И далее, опять выражаясь шахматным языком, нам предстоит подтянуть пешечное подкрепление сопутствующих, побочных тем в подтексте романа, прикрывающих (и дополняющих) этот стремительный «ход коня».
Здесь следует еще раз подчеркнуть, что в исследовании тематически-смысловых подтекстов набоковского романа «Защита Лужина» основное внимание мы обращаем на метафизическое звучание этого подтекста. Соответственно и контекстом, сопряженными ему текстами и авторами, с которыми полемизирует Набоков, будут произведения по большей мере философского характера. Знакомство и интерес, к которым вполне подтвержден биографами Набокова, но недостаточно ещё осмыслен сквозь тематический ряд его произведений. Обширная проблема влияний и перекличек в современном набоковедении в основном находится в литературном поле. Мы же будем исходить из того, что смысловая квинтэссенция набоковских произведений происходила, прежде всего, из его полемического отношения к философско-публицистическим текстам его современников. Что он был хорошо знаком с произведениями Мережковского, Розанова, Иванова-Разумника, Гершензона, Шестова, Бердяева и многих, многих других авторов-современников, пишущих как на литературоведческие так и на философско-антропологические темы. При этом, не упуская из виду, что набоковский «ответ», его метафизическое высказывание дано сквозь символику сугубо художественного произведения с его особенным, характерным своеобразием и спецификой выразительных средств и приемов.
В марте 1963 года, в интервью Олеину Тоффлеру, Набоков категорически отказался посвящать собеседника в сокровенные тайны творческого процесса, но, окольным образом давая представление о процессе накопления материала, рассказал о не понадобившихся заметках к роману «Бледный огонь», о накапливании материала, о потаенных механизмах работы вдохновения, черпающего свой материал из почти хаотически разнообразных явлений и сторон жизни. От аллегорически насыщенных естественно-научных заметок: «С эстетической точки зрения солитер, конечно же, нежелательный жилец …», «Berry: [ягода – англ.] черная шишка на клюве лебедя-шипуна»… «Dropworm: [вид червя – англ.] маленькая гусеница на нитке», до философских размышлений: ««Время без сознания — мир низших животных; время с сознанием — человек; сознание без времени — какой-то более высокий уровень»… «Мы думаем не словами, а призраками слов. Джеймс Джойс ошибался, облекая мысли в своих вообще-то превосходных внутренних монологах излишней словесной плотью» и т. д. Своеобразный, художественный аналог диалектического метода движения мысли «от конкретного к абстрактному».
Мы же проделываем зеркально-обратную работу. Своеобразный аналог шахматного «ретроградного анализа». В застывшем узоре художественного произведения по едва заметным признакам, по приметам уже оформившегося, сложившегося целого мы дедуцируем к частным образам, темам и проблемам. Выбираем и представляем в его изначальном звучании тот материал, который лег в основу проблемно-тематического подтекста изучаемого романа. И осознав всю содержательную полноту, острую актуальность для того времени и полемическую напряженность этого материала, мы восходим к иному уровню понимания конкретики романного подтекста и его выразительного потенциала. Повторим еще раз. Набоковские авторецензии собственного романа /«в каждом слове чувствуется бессонная ночь», «какая сложная, сложная махина»/ все больше наполняются смыслом и перестают быть просто изящными фигурами речи.
Продолжим рассмотрение романа «Защита Лужина» с точки зрения его философского подтекста, проявляемого как на уровне множественности и взаимо-согласованности звучания деталей на поверхности текста, так и на уровне связанных с ними тематическим узором в неявном, «подводном» его течении. Пойдем путем выявления характерных деталей, рассмотрения их происхождения, к дальнейшему выяснению их смысловой роли в полемическом высказывании автора в произведении.
И рассмотрим далее, прежде в контексте данного произведения не упоминавшиеся, роль и значение судьбы и учения французского философа, мистика, Блеза Паскаля в романе «Защита Лужина».
Интерес Набокова к личности и учению (темам) Паскаля в целом лежит на поверхности и отмечен набоковедами давно. Это, например, повторяющаяся в его произведениях тема двух бездн:
- в зачине автобиографического Speak memory (Другие берега):
«Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, в которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час»[1].
- затем, в поэме Шейда:
Infinite foretime and
Infinite aftertime: above your head
They close like giant wings, and you are dead[2].
Перекликающаяся со словами Паскаля:
«88. Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мною, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, я трепещу от страха и недоуменно вопрошаю себя: почему я здесь, а не там, — потому что нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Кто определил мою судьбу? Чей приказ, чей промысел предназначил мне это время и место? Метопа hospitis unius diei praetereuntis[3]»[4].
«91. Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств!»[5]
Или прямое упоминание в «Даре» паскалевых идей о микро и макро-бесконечностях в карикатурном виде представленных в рассуждениях Буша, этого чудаковатого лужинского двойника. Сравните:
В «Даре»:
- «Мой Роман, - сказал Буш, глядя вдаль и слегка протянутой вбок рукой в дребежжащей манжете, выпиравшей из рукава черного пальто, останавливая Федора Константиновича (это пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта), - мой Роман это трагедия философа, который постиг абсолют-формулу. Он разговаривается и говорит (Буш, как фокусник, извлек из воздуха тетрадь и стал на ходу читать): "Нужно быть набитым ослом, чтобы из факта атома не дедуцировать факта, что сама вселенная лишь атом, или, правильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома. Это еще геньяльный Блэз Паскаль интуитивно познавал». <…> Допускается, что некто физик сумел разыскать среди абсолют-немыслимой суммы атомов, из которых скомпоновано Всё, фатальный атом тот, к которому применяется наше рассуждение. Мы предполагаем, что он додробился до самой малейшей эссенции этого как раз атома, в который момент Тень Руки (руки физика!) падает на нашу вселенную с катастрофальными результатами, потому что вселенная и есть последняя частичка одного, я думаю, центрального, атома, из которых она же состоит. Понять не легко, но, если вы это поймете, то вы всё поймете. Прочь из тюрьмы математики! Целое равно наимельчайшей части целого, сумма частей равна части суммы. Это есть тайна мира, формула, абсолют-бесконечности, но сделав таковое открытие, человеческая личность больше не может гулять и разговаривать»[6].
У Паскаля:
- «84. … Человек в бесконечности — что он значит?
Ну, а чтобы предстало ему не меньшее диво, пусть вглядится в одно из мельчайших существ, ведомых людям. Пусть вглядится в крохотное тельце клеща и еще более крохотные члены этого тельца, пусть представит себе его ножки со всеми суставами, со всеми жилками, кровь, текущую по этим жилкам, соки, ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в этих каплях; пусть и дальше разлагает эти частицы, пока не иссякнет его воображение, и тогда рассмотрим предел, на котором он запнулся. Возможно, он решит, что уж меньшей величины в природе не существует, а я хочу показать ему еще одну бездну. Хочу ему живописать не только видимую Вселенную, но и безграничность мыслимой природы в пределах одного атома. Пусть он узрит в этом атоме неисчислимые вселенные, и у каждой — свой небосвод, и свои планеты, и своя Земля, и те же соотношения, что и в нашем видимом мире, и на этой Земле — свои животные и, наконец, свои клещи, которых опять-таки можно делить, не зная отдыха и срока, пока не закружится голова от этого второго чуда, столь же поразительного в своей малости, сколь первое — в своей огромности; ибо как не потрястись тем, что наше тело, такое неприметное во Вселенной, являет собой на лоне сущего сущего, вопреки этой своей неприметности истинного колосса, целый мир, вернее, все сущее в сравнении с небытием, которое так и остается непостижимым для нас»[7].
Или, например, как созвучно фальтеровскому прозрению, открытию «сущности всех вещей» в «Ultima thule» звучит следующее размышление Паскаля: «человек вполне может знать, что Бог есть, и при этом не ведать Его сути. Нам ведомо множество истин частичных, не охватывающих всей истины, так почему же не может быть единой всеобъемлющей истины?»[8]
«17. Чем умнее человек, тем больше своеобычности видит он в каждом, с кем сообщается. Для человека заурядного все люди на одно лицо»[9]. Отчетливо обращающаяся к заглавной теме иллюзорного двойничества в набоковском романе «Отчаяние». Своеобразно переиначенная, но так же утверждая главенство «различия» она повторяется в романе «Pale fire»: «Сходства - это лишь тени различий. Различные люди усматривают различные сходства и сходные различия»
Еще одна, специфически паскалева идея, пройдя сквозь учение Вольтера, стала одним из базовых историософских постулатов самого Набокова.
«Так, например, - пишет Филиппов, - известное положение Вольтера, гласящее, что в жизни человечества малые поводы часто влекут за собою огромные последствия, навеяно чтением "Мыслей" Паскаля. Паскаль говорит, например, что все результаты политической деятельности Кромвеля погибли оттого, что в его мочевой пузырь попала песчинка, и это повлекло за собой каменную болезнь[10]. Вольтер в свою очередь заявляет, что все крайние революционные действия Кромвеля были вызваны состоянием его пищеварения. Подобных далеко не случайных аналогий между Паскалем и Вольтером можно было бы привести десятки»[11].
Сравните это размышление с набоковскими историософскими высказываниями, прямыми и художественными.
Ср., из «Соглядатая»:
- «Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с тугонабитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными “у”, безнадежно аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью закона никакого нет — зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, — все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд “Капитал”, — плод бессонницы и мигрени. Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы… заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Таинственная эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие, — было так, а могло бы быть иначе, — и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого»[12].
Идущим из размышлений Паскаля мы можем рассматривать ещё один набоковский прием в создании персонажей.
«Люди думают, — говорил Паскаль, — что жизнь человека начинается с рождения, а я думаю, что надо считать жизнь с того дня…» Следует только на языке Паскаля возможное сочетание слов: «Жизнь надо считать с того дня, когда человек начинает потрясаться разумом (être ébranlé par la raison), что происходит не раньше двадцати лет; до того человек — дитя, а дети — не люди».[57]
Это высказывание Паскаля может в ином свете представить нарочито странные хронологические «совпадения» в биографиях таких набоковских персонажей, как, например, Сабастьяна Найта и его брата в книге «The Real Life of Sebastian Knight», или родившихся в один день - Шейда, Кинбота и Градуса в «Pale fire». Персонажей отчетливо отмеченных чертами «двойничества», родства, тайного «единоутробия». Так, например, в случае с «Истинной жизнью Себастьяна Найта», мы можем предположить, что за дату рождения героя берется хронологическая точка языкового преображения его автора.
Вот как, отталкиваясь от этого размышления Паскаля можно интерпретировать странную заключительную фразу романа, отчетливо декларирующую единство и различие автора романа, Набокова и его персонажей: «мне не выйти из роли, нечего и стараться: маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Себастьян — это я, или я — это Себастьян, а то, глядишь, мы оба — суть кто-то, не известный ни ему, ни мне»[13].
Уже в первой главе романа, проявляя биографическое единство автора и персонажей, брат Себастьяна, биограф В. пишет: «Я не сумел раздобыть фотографию дома, где родился Себастьян, мне, впрочем, хорошо знакомого, поскольку и я там же родился шесть лет спустя»[14].
Речь идет о доме номер 38 на Сергиевской улице где Набоковы прожили два года, с осени 1906 по осень 1908, и где Набоков поселил сначала тётю Лужина, а позднее маленького Себастьяна с братом В[15].
И появление в романе у шестилетнего, англоговорящего Себастьяна русского брата В. отражает биографические обстоятельства, связанные с переходом с одного языка на другой (фоновая тема всего романа), в жизни самого Набокова, о которых он пишет в «Других берегах»: «Итак переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять»[16].
Так в зеркале художественного текста отчуждается, отображается лингвистическая судьба автора. Его языковая ипостась персонифицируется, воплощается и расщепляется. В согласии с паскалевым наблюдением, языковое бытие автора отражается в тесно/неразрывно связанных, но отдельных персонажах. Переход с английского на русский в детстве представлен как рождение младшего брата В. Смерть Себастьяна и его воскрешение под маской его брата В, в свою очередь, отражает переход с русского на английский осуществленный в этом романе их автором - Набоковым («кто-то, не известный ни ему, ни мне»).
Аналогичный прием расщепления и отчуждения ступеней собственной личностной эволюции по ряду признаков мы можем предполагать и в романе «Pale Fire». Где единство трех основных персонажей помимо прочих примет утверждается так же и единым днем их рождения.
В самых разных местах набоковского творчества мы находим отблески и отражения мыслей Паскаля. Например, какое богатство иносказательных смыслов проявляется во взаимо-отражениях 393 максимы Паскаля и все того же набоковского романа «Pale Fire». Здесь и спиритуалистический поиск потустороннего Шейдом, и безнадежное отчаяние, грезящего своим островным королевством Кинбота. И «островная» аллегория потустороннего в поэме Шейда[17].
Паскаль пишет:
- «393. Видя слепоту и ничтожество человека, вглядываясь в немую Вселенную и в него, погруженного во мрак, предоставленного самому себе, словно заблудившегося в этом закутке мироздания и понятия не имеющего, кто его туда поместил, что ему там делать, что с ним станется после смерти, не способного к какому бы то ни было познанию, я испытываю ужас, уподобляясь тому, кто во сне был перенесен на пустынный, грозящий гибелью остров и, проснувшись, не знает, где он, знает только — нету у него никакой возможности выбраться из гиблого места. Думая об этом, я поражаюсь, как это в столь горестном положении люди не приходят в отчаяньея спрашиваю у них — может быть, им известно что-то, неведомое мне, и в ответ слышу: нет, им тоже ничего не известно, — и, едва успев ответить, эти жалкие заблудшие существа, поглядев по сторонам, обнаруживают какие-то привлекательные на вид предметы, и вот они уже целиком ими заняты, целиком поглощены. Но я не могу разделить их чувства, и, так как, судя по многим признакам, существует нечто сверх зримого мною мира, я продолжаю искать, не оставил ли этот невидимый Бог каких-либо следов Своего бытия»[18].
Вот лишь небольшой перечень примеров набоковской заинтересованности, прямой и опосредованной, темами, судьбой Паскаля и их культурологическими отражениями.
И далее мы покажем, что Блез Паскаль, и как автор своеобразных взглядов и как фигура трагической судьбы, и как объект последующих интерпретаций и мифологизаций был довольно плотно включен в художественно-тематический подтекст уже третьего набоковского романа «Защита Лужина».
«Защита Паскаля»
Сразу следует отметить, что и в судьбе самого Паскаля и в её отражении и интерпретации потомками отчетливо прозвучала тема «защиты».
К разного рода «защитам» или апологиям в судьбе Паскаля можно отнести, например, опыт его полемики с Монтенем.
Как свидетельствует Э Бутру: «У Монтеня он особенно вник в "Апологию Раймона де Себонда" (L'Apologie de Raymond de-Sebonde), и много размышлял над этой смущающей душу беседой, где под предлогом защиты естественных доводов в доказательствах религии, автор показывает нам, насколько природа равнодушна к этому вопросу, а разум беспомощен, так что в конце концов религия остается как бы парящей в пустом пространстве, без всяких препятствий на своем пути, но и без всякой поддержки и без всякой связи с действительностью»[19].
Но основной, наиболее известной «защитой» в жизни Паскаля была, так и не оконченная им, главная работа его жизни - «Защита Христианства».
В течение многих лет он составлял свои заметки для «Апологии христианства», — именно они и сохранились и были изданы позднее под названием «Мысли» (Pensées).
Диалектика разного рода «защит» сопровождает происхождение, суть и отражение взглядов Паскаля.
Например, психологический источник лужинского поиска «защиты» кроющийся в детских унижениях и одиночестве, отчасти отражается от паскалевого пессимизма, о котором говорил Вольтер.
"Мне кажется, - писал Вольтер в своих примечаниях к "Мыслям" Паскаля, - что общий дух произведений Паскаля - изображение человека в самом ненавистном свете; он с ожесточением рисует нас всех злыми и несчастными; он пишет против человеческой природы почти так же, как писал против иезуитов. Он приписывает сущности нашей природы то, что принадлежит лишь известным людям, и самым красноречивым образом поносит человеческий род. Я осмеливаюсь принять сторону человеческого рода против этого возвышенного человеконенавистника; я смею утверждать, что мы вовсе не так злы и не так несчастны, как полагают"[20]. «человеконенавистничеством», согласно Вольтеру «защищается» от «злой» «человеческой природы». Вольтер же, в свою очередь, «защищает» нас (человечество) от паскалевских наветов. И совершенно в унисон лужинской истории, Вольтер пытается объяснить это «возвышенное человеконенавистничество» Паскаля его психической болезнью.
«Ссылаясь на показания Лейбница и других писателей, Вольтер пытается доказать, что Паскаль в последние пять-шесть лет своей жизни был полупомешанным, причем замечает: "Эта болезнь нисколько не более унизительна, чем горячка или мигрень. Если великий Паскаль был поражен ею, то ведь это Самсон, потерявший свои силы».
И как пишет далее Филиппов: «Этот взгляд на Паскаля, подкрепленный блестящими изречениями Вольтера и других энциклопедистов XVIII века, был в продолжение долгого времени господствующим. Он всецело отразился в замечательном для своего времени исследовании, написанном в сороковых годах настоящего столетия врачом Лелю: автор этой работы весьма искусно сопоставил все известные в его время факты, так или иначе свидетельствующие о ненормальности душевного состояния Паскаля. К тому же взгляду отчасти склоняется и французский философ Кузен, весьма часто порицающий мнения Паскаля, но оправдывающий их болезнью этого великого человека»[21]. Все эти нападки, «объяснения» и «диагнозы» создали определенный формат биографической полемики вокруг т. н. «болезни» Паскаля. Формат обвинения и защиты.
Как пишет далее М. Филиппов: «Совершенно противоположный взгляд развивается во Франции целым рядом писателей, начиная с янсенистских богословов и кончая Сент-Бёвом и академиком Нурисоном. Для них нравственно-философское учение Паскаля является чистейшим выражением христианства, и, охотно допуская какие угодно промахи Паскаля в личной жизни или даже в области науки, они не дозволяют ни малейшего посягательства на Паскаля как на автора "Мыслей", являющихся программою задуманной им апологии христианства.
Все эти защитительные и обвинительные речи имели свое значение в XVII и в XVIII веке, но давно пришла пора отнестись к жизни и деятельности Паскаля с полной объективностью; а при таком беспристрастном взгляде нельзя не увидеть, что как адвокаты, так и прокуроры его впадали в явные преувеличения.
Что касается болезни Паскаля, то, во-первых, никак нельзя считать эту болезнь помешательством. В XVIII веке - и еще более теперь, в конце XIX - слишком часто смешивали и смешивают всякого рода экстазы с сумасшествием; были попытки даже провести полную аналогию и установить тесную связь между всякого рода гениальностью и помешательством. Паскаль был постоянно болен, но помешанным его нельзя назвать ни в один период его жизни, даже тогда, когда он находился под влиянием сильнейшего религиозного экстаза. Сверх того, болезни Паскаля во многих случаях были никак не причиною, а следствием его чрезмерной и в этом смысле ненормальной умственной деятельности»[22].
В качестве итогового в этом вопросе вывода приведем слова, которыми Филиппов, первый русский биограф Паскаля открывает свое сочинение: «О жизни и философии Паскаля было высказано много противоречивых мнений; и до сих пор еще трудно указать хотя бы одно исследование о Паскале, не имеющее характера либо защитительной речи, либо обвинительного акта. Даже в самое новейшее время французский академик Нурисон счел необходимым написать пространную “Защиту Паскаля” (Defense de Pascal) и ломать из-за него копья с писателями XVIII века»[23]. Особо отметим здесь характерное в контексте нашего исследования название книги Нурисона “Защита Паскаля” (Defense de Pascal).
Знаковые аллюзии к теме Паскаля в романе «Защита Лужина».
И от этого обще-тематического введения-сопоставления обратимся к конкретике набоковского романа. Мы, конечно же, хорошо помним его начальные главы, посвященные описанию детских лет Лужина, его учебе, отношениям с родителями и со сверстниками. Зарождение и обнаружение его дара. Историю его вундеркиндства. Сопоставим особенности и детали этого описания с первыми главами различных, но предельно созвучных между собой биографий Паскаля. Возьмем, например, уже упомянутую выше книгу «Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность», написанную Филипповым М. М. и вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова» в 1891 г. Или книгу Бутру Э. Паскаль (Из наследия мировой философской мысли. Великие философы) 1901 г. Специально ограничимся здесь изданиями конца 19, начала 20-го века вполне доступными молодому Набокову.
Даже если особенно не принимать во внимание созвучных детской истеричности и психологической ранимости маленького Лужина описаний детской болезненной возбудимости Паскаля, его эпилептических припадков, его младенческой истерической ревности матери к отцу, то и тогда история математического вундеркиндства «двенадцатилетнего» Паскаля, ставшая своеобразным историческим анекдотом, отчетливо раскрывает свою несомненную связь с описанием зарождения шахматного дара Лужина. Вспомним, что ему в ту пору также было 12 лет.
«В то время Паскалю было двенадцать лет. Еще раньше произошло событие, обнаружившее изумительные математические способности его.
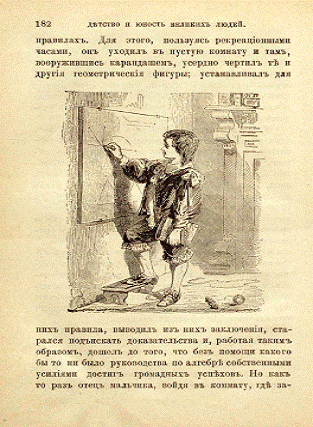
план занятий сына, он отложил математику до тех пор, пока сын не усовершенствуется в латыни. Зная любознательность Блеза, отец тщательно прятал от него все математические сочинения и при нем никогда не вел с друзьями математических бесед. Когда мальчик просил учить его математике, отец обещал это в виде награды в будущем. Юный Паскаль просил отца объяснить, по крайней мере, что за наука геометрия? "Геометрия, - ответил отец, - есть наука, дающая средство правильно чертить фигуры и находить отношения, существующие между этими фигурами".
Двенадцатилетний мальчик задумался над этим определением. Размышления овладели им до такой степени, что в часы отдыха, находясь в зале, где он обыкновенно играл, Паскаль стал заниматься черчением фигур, даже не зная их настоящих названий. Он рисовал углем прямые линии, называя их "палками", чертил круги, стараясь сделать их по возможности правильными, и называл их "кольцами"; затем стал доискиваться, какие пропорции существуют между фигурами и частями фигур. Ища доказательств найденных им путем измерения свойств, Паскаль составлял свои теоремы и аксиомы и мало-помалу дошел до тридцать второй теоремы первой книги Евклида, гласящей, что сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым углам»[24].
В этом отрывке отражаются и отношения «отца с сыном», и ошибочно педагогические заботы отца будущего вундеркинда (в «Защите Лужина» отец маленького Лужина «придравшись ко вчерашнему вечеру, намекал на то, что хорошо бы начать заниматься музыкой»(117)), и особенно отчетливо математически-геометрические увлечения Лужина. Сначала двенадцатилетним мальчиком «он необычайно увлекся сборником задач, «веселой математикой», как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий – всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, – в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечной стезе. Но при помощи линейки он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии»(113).
А затем, на втором, зазеркальном, повторяющем детские годы витке его жизни:
«С удовольствием Лужин чинил карандаш, мерил что-то, прищурив глаз и подняв карандаш с прижатым к нему большим пальцем, и осторожно двигал по бумаге резинкой, придерживая лист ладонью, так как по опыту знал, что иначе лист с треском даст складку. И очень деликатно он сдувал атомы резины, боясь прикосновением руки загрязнить рисунок. Больше всего он любил то, с чего начал по совету жены, то, к чему постоянно возвращался, – белые кубы, пирамиды, цилиндры и кусок гипсового орнамента, напоминавший ему урок рисования в школе, – единственный приемлемый урок. Успокоительны были тонкие линии, которые он по сто раз перечерчивал, добиваясь предельной тонкости, точности, чистоты. И замечательно хорошо было тушевать, нежно и ровно, не слишком нажимая, правильно ложащимися штрихами.
«Готово», – сказал он, отстраняя от себя лист и сквозь ресницы глядя на дорисованный куб. Тесть надел пенснэ и долго смотрел, кивая головой. Из гостиной пришли теща и жена и стали смотреть тоже. «Он даже маленькую тень отбрасывает, – сказала жена. – Очень, очень симпатичный куб.
<…>
«А спальню украшал углем сделанный барельеф и конфиденциальный разговор конуса с пирамидой»(219-220).
И вовсе неслучайно в набоковском романе упомянут озабоченный доказательством тридцать второй теоремы из первой книги Евклида[25] Петрищев, которому, вспомним, отведена роковая роль в шахматно-зазеркальной судьбе сходящего с ума Лужина второй половины романа. Эта упомянутая Петрищевым в романе теорема представляет собой один из примеров многозначных набоковских аллюзий, связанных с различными тематически-смысловыми планами произведения и обращенных к различным источникам, одним из которых является биография Паскаля. Эта теорема в его судьбе и назидательных жизнеописаниях превратилась в своеобразный символ вундеркиндства. Тайным знаком которого она присутствует и в набоковском описании зарождения лужинского дара. О других её аллюзиях и смыслах поговорим позднее. Здесь же упоминание этой 32-й теоремы (или, как их называли в русских переводах «предложения») Набоков нарочито сочетает с шахматными образами. «Петрищев умолял всех объяснить ему, почему мы знаем, что они равняются двум прямым. И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый, деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко и невпопад стукнуло сердце»(120).
Далее, скрываемое от отца увлечение геометрией юного Паскаля выписано предельно в унисон тайному увлечению шахматами двенадцатилетнего Лужина.
«Как раз в тот момент, когда Паскаль оканчивал доказательство этой теоремы, в комнату вошел отец, ничего не подозревавший о занятиях сына. Сын, в свою очередь, был так погружен в размышления, что долго не замечал присутствия отца. Трудно сказать, кто из двух был более ошеломлен: сын ли, застигнутый врасплох за недозволенным занятием, или отец, увидевший нарисованные сыном фигуры»[26].
Вспомним здесь запирающегося в темном кабинете, чтобы предаться своей шахматной страсти, маленького Лужина.
«точно так же уже однажды разыгранную партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской: это было тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматами, ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь; дверь, правда, он запирал на ключ, отпирал ее нехотя, после того как медная ручка много раз опускалась, – и отец, приходивший смотреть, что он делает в сырой, нежилой комнате, находил сына беспокойного и хмурого, с красными ушами; на столе лежали тома журнала, и Лужин-старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. «Зачем ты запираешь дверь? – спрашивал он (и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот, сейчас, отец заглянет под диван и найдет шахматы). – Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах?»(125-126)
И далее созвучие положений продолжает усугубляться. Изумление, потрясение отцов двух сравниваемых нами вундеркиндов. Обращение за проверкой и советом к специалистам. Публичное оглашение таланта.
В семье Паскаля:
«Но изумлению отца не было предела, когда сын сознался, что старается доказать основное свойство треугольника.
- Каким образом ты додумался до этого? - спросил наконец отец.
- А вот как: я нашел сначала вот что, - и сын привел теорему, касающуюся свойств внешнего угла треугольника. - А это я узнал вот как, - и последовал ряд доказательств. Идя таким путем и говоря, например, что "две вместе взятые палки в фигуре из трех палок длиннее третьей палки", юный Паскаль объяснил отцу все открытые им свойства "палок и колец" и наконец дошел до своих определений и аксиом»[27].
«Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной, – так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде, среди черной летней ночи, против этого мальчика, у которого словно увеличился, разбух напряженный лоб, как только он склонился над фигурами, – так это было все странно и страшно, что сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог»(130)
И далее:
«Отец Паскаля был не только удивлен, но испуган силою этого детского ума. Не ответив сыну ни слова, он вышел из комнаты и отправился к своему приятелю Ле Пальеру, человеку ученому и расположенному к его семье. Видя крайнее волнение отца Паскаля, заметив у него даже слезы на глазах, Ле Пальер испугался и просил сказать скорее, что случилось?
- Я плачу не от огорчения, но от радости, - сказал Эгьен Паскаль. - Вы знаете, как тщательно скрывал я от моего сына книги по математике, чтобы не отвлечь его от других занятий, но посмотрите, что он сделал.
И счастливый отец повел к себе Ле Пальера. Тот был изумлен не менее самого отца и сказал:
- По моему мнению, нельзя долее держать этот ум взаперти и скрывать от него эту науку. Надо сейчас дать ему книги.
Отец Паскаля дал сыну Евклидовы "Начала", позволив читать их в часы отдыха.
Мальчик прочел Евклидову "Геометрию" сам, ни разу не попросив объяснения. Не довольствуясь прочитанным, он дополнял и сочинял»[28].
Сравните еще раз:
«Его – С. С.) отец, не совладев с любопытством, отправился к угрюмому доктору, который играл в шахматы куда лучше его, и вечером, после обеда, смеясь и потирая руки, всеми силами стараясь скрыть от себя, что поступает нехорошо, – а почему нехорошо, сам не знает, – он усадил сына и доктора за плетеный стол на веранде, сам расставил фигуры, извиняясь за фиолетовую штучку, и, сев рядом, стал жадно следить за игрой. <…> И когда он вышел его провожать в темный сад до окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так жаждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело, – лучше бы он их не услышал.
Доктор стал бывать каждый вечер и, так как действительно играл очень хорошо, извлекал огромное удовольствие из непрекращавшихся поражений. Он принес учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком им увлекаться, не уставать, читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом радже, о великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. Иногда, с угрюмой улыбкой, он приносил то, что называл «гостинцем», – хитрую задачу, откуда-то вырезанную. Лужин, покорпев над ней, находил наконец решение и картаво восклицал, с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах: «Какая роскошь! Какая роскошь!»»(131-132)
И Филиппов, говоря об уникальном случае математического гения, о двенадцатилетнем вундеркинде заключает:
«Можно поэтому сказать без всякого преувеличения, что Паскаль вторично изобрел геометрию древних, созданную целыми поколениями египетских и греческих ученых. Это факт беспримерный даже в биографиях величайших математиков. Клеро на восемнадцатом году жизни писал замечательные трактаты, но он имел хорошую подготовку, да и восемнадцать лет не то, что двенадцать. Способности одного из величайших математиков всех времен - Ньютона развились сравнительно поздно. Из всех великих ученых Паскаль более кого бы то ни было имеет право на титул преждевременно развившегося и столь же преждевременно погибшего гения».[29]
Подчеркивая и 12-ти летний возраст юного гения и трагическую преждевременность его гибели. Детали заимствованные и отображенные Набоковым в его истории о роковой судьбе вундеркинда шахматного – Лужина.
В добавление к теме геометрических перекличек в судьбах Паскаля и Лужина можно еще вспомнить о геометрическом рисунке Лужина: «А спальню украшал углем сделанный барельеф и конфиденциальный разговор конуса с пирамидой»(220). И о конусах в научной судьбе Паскаля: «Шестнадцати лет Паскаль написал весьма замечательный трактат о конических сечениях (то есть о кривых линиях, получающихся при пересечении конуса плоскостью, - таковы эллипс, парабола и гипербола)»[30].
И далее, параллельность образов и судеб продолжается в теме честолюбия, провоцирующего умственное перенапряжение, ведущее в свою очередь к истощению физических сил и болезням.
Как пишет Филиппов: «Со времени изобретения Паскалем арифметической машины имя его стало известным не только во Франции, но и за ее пределами. Хотя сестра Паскаля и уверяет в биографии своего брата, что он в восемнадцать лет нисколько не жаждал славы, но это утверждение находится в противоречии с действиями самого Паскаля, который старался оповестить о своем изобретении всех кого мог и, например, написал об этом письмо известной шведской королеве Христине, эксцентричной дочери Густава Адольфа, занимавшейся науками, пригласившей к себе Декарта и возбуждавшей восторги современников своею молодостью и красотою еще более, чем ученостью»[31].
«аппарат с квадратными оконцами для номеров. Где-то пролетел звонок. В одном из оконец криво выскочил номер».
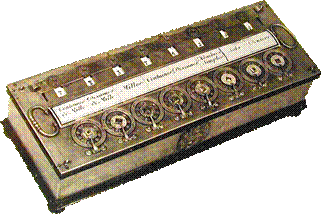
Да и сам Лужин, производит вычисление своего шахматного стажа - «Восемнадцать лет, три месяца и четыре дня» - точно по разрядной методике расчетов на «паскалине». Отметим, что созданная Паскалем для облегчения отцу денежного счета машина умела оперировать не только с десятичной системой исчисления, но и с французской монетной системой того времени, по сложности вполне сравнимой с системой хронологической.
Но, вместе с тем погоня за славой, как и в судьбе Лужина непреложно связана с чрезмерными психическими нагрузками с болезнями.
«Усиленные занятия – пишет Филиппов - вскоре подорвали и без того слабое здоровье Паскаля. В восемнадцать лет он уже постоянно жаловался на головную боль, на что первоначально не обращали особого внимания. Но окончательно расстроилось здоровье Паскаля во время чрезмерных работ над изобретенной им арифметической машиной.
<…>
Как вредно отразилась работа над этим изобретением на состоянии организма Паскаля, видно из его собственных слов, что с восемнадцатилетнего возраста он не помнит ни одного дня, когда бы мог сказать, что был вполне здоров»[32]
Много позже, в набросках к своему главному труду «Защита Христианства», ставшего известным как «Мысли», о пороке славолюбия Паскаль писал: «Славолюбие — самое низменное из всех свойств человека и вместе с тем самое неоспоримое доказательство его возвышенной сути, ибо, даже владея обширными землями, крепким здоровьем, всеми насущными благами, он не знает довольства, если не окружен общим уважением. Он испытывает такое уважение к человеческому разуму, что даже почтеннейшее положение в нашем земном мире не радует его, если этот разум отказывает ему в людском почете. Почет - заветнейшая цель человека, он всегда будет неодолимо стремиться к ней, и никакими силами не искоренить из его сердца желания ее достичь.
И даже если человек презирает себе подобных, если приравнивает их к животным, все равно, вопреки своим же убеждениям, он будет добиваться людского признания и восторженных чувств: ему не под силу сопротивляться собственной натуре, которая твердит ему о величии человека более убедительно, нежели разум — о низменности»[33].
И как будто своим третьим романом с его аллегорическим подтекстом, Набоков желал иронически проиллюстрировать 277 максиму Паскаля: «Слава. — Животные не способны восхищаться друг другом. Лошадь не приходит в восхищение от другой лошади; конечно, они соревнуются на ристалище, но это не имеет значения: в стойле самый тихоходный, дрянной коняга никому не уступит своей порции овса, а будь он человек — волей-неволей пришлось бы уступить. Для животных их достоинства уже сами по себе награда»[34].
Росту известности провоцирующей рост тщеславия сопутствовало и обострение научной конкуренции. Борьба, зачастую, как это обычно и бывает, стала выходить за рамки научной полемики, переходя в межличностные интриги и психологическое давление. (Снова вспомним о психологической трансформации шахматного соперничества в начале 20-го века, послужившей тематическим фоном трагедии Лужина). Успехи молодого Паскаля вызвали раздражение «первого философа того времени» - Декарта.
И «отзыв Декарта о юношеских работах Паскаля грешит излишнею суровостью. Декарт не мог не видеть, что Паскаль не ограничился подражанием Дезаргу, но открыл много в высшей степени замечательных теорем, из которых одна, названная им "мистическим шестиугольником", составляет весьма крупное приобретение для науки. Пристрастный отзыв Декарта, первого философа того времени, вероятно, весьма чувствительно задел юного математика; еще более были раздражены приятели отца Паскаля, и Роберваль с тех пор не упускал ни одного случая насолить Декарту.
Борьба между школою Декарта, или так называемыми картезианцами, и учредителями Французской академии, группировавшимися подле Паскаля, усилилась, когда двадцатилетний Паскаль предпринял ряд физических опытов, имевших целью продолжить исследования Торричелли и других учеников Галилея»[35].
Но усиленное занятие науками в погоне за пальмой первенства пагубно сказывалось на здоровье Паскаля. Как пишет Филиппов: «Состояние здоровья сына нередко внушало отцу серьезные опасения, и с помощью друзей дома он не раз убеждал молодого Паскаля развлечься, отказаться от исключительно научных занятий и умерить дух излишней святости, "распространившийся, - по словам его сестры, - на весь дом".
«До какого нервного расстройства доводили иногда Паскаля его благочестивые упражнения, видно из следующего рассказа его племянницы: "Мой дядя, - пишет она, - жил в великом благочестии, которое сообщил всему семейству. Однажды он впал в необыкновенное состояние, бывшее последствием чрезвычайных занятий науками. Мозг его был так утомлен, что с моим дядей приключился род паралича. Паралич этот распространился от пояса до самого низа, так что одно время дядя мог ходить не иначе, как на костылях. Его руки и ноги стали холодны, как мрамор, и каждый день приходилось надевать ему носки, смоченные водкой, чтобы сколько-нибудь согреть ноги"[36].
А вот как изображено прогрессирование вызванной все тем же переутомлением болезни Лужина.
«Таинственная погоня далеко позади. Теперь уж его не поймаешь. Нет-нет. … <…> Ноги от пяток до бедер были плотно налиты свинцом, как налито свинцом основание шахматной фигуры. Понемногу исчезали огни, редели призраки, и волна тяжкой черноты поминутно его заливала. При каком-то последнем отблеске он разглядел палисадник, круглые кусты, и ему показалось, что он узнает дачу мельника. Он потянулся к решетке, но тут торжествующая боль стала одолевать его, давила, давила сверху на темя, и он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался и потом беззвучно рассеялся»(179-180). Есть все основания полагать, что такая деталь как паралич нижней половины тела вследствие психического переутомления возникла в набоковском романе неслучайно.
Примерно в том же возрасте, что и Паскаль теряет отца в романе и Лужин. Паскалю шел 29 год. Лужину – 29 (или едва только исполнилось 30) лет.
Следы еще одного хрестоматийного события из жизни Паскаля могут быть усмотрены в набоковском романе. Это случай чудесного спасения Паскаля от гибели на мосту Нейльи, дополняющий тему бездны и падения во всем набоковском романе и изобразительно просматривающийся в лужинском рисунке поезда на переброшенном через пропасть мосту[37]. Вот что об этом событии пишет Филиппов: «В один праздничный день Паскаль катался с друзьями в коляске, запряженной четверкою лошадей, как вдруг пристяжные закусили удила как раз в ту минуту, когда коляска, ехавшая по мосту, поравнялась с местом, не загороженным перилами. В одно мгновение лошади обрушились в воду, дышло переломилось, и кузов коляски, оторвавшись, остался с седоками на самом краю пропасти.
Этот случай сильно потряс нервную систему Паскаля, и нет ничего невозможного в том, что в течение нескольких недель или даже месяцев он, быть может, страдал бессонницей и галлюцинациями»[38]. Примечательно, что это происшествие Филиппов рассматривает как повод ко «второму «обращению»» Паскаля. И при этом, защищая Паскаля, снова возражает против обвинений его в «умопомешательстве»[39]. Но именно с этим случаем связывает Филиппов паскалев страх бездны. Видение и страх бездны также являются хрестоматийными темами в биографии Паскаля, преломившимися и отобразившимися в изучаемом нами романе Набокова. В темах лужинского притяжения шахматных и пространственных бездн, противостояния, защиты и итогового падения. Сплетение шахматных иллюзорностей, галлюцинаций и реальности в теме бездны. Как передает Филиппов: «Аббат Буало положительно утверждает следующее: “Этот великий ум всегда (?) воображал, что видит со своей левой стороны бездну. Он постоянно ставил по левую руку стул, чтобы успокоить самого себя. Его друзья, его исповедник, его начальник (то есть аббат, который был духовным наставником Паскаля в пор-рояльском янсенистском убежище) не раз убеждали его, что бояться нечего, что это не более как призраки воображения, утомленного отвлеченными метафизическими размышлениями. Он во всем соглашался с ними и четверть часа спустя опять видел бездонную пропасть, которая его пугала”»[40].
И, наконец, еще одна деталь жизнеописания Паскаля может быть усмотрена в обстоятельствах лужинской истории. Это т. н. «Амулет Паскаля», вещественный атрибут и свидетельство его «второго обращения», случившегося после происшествия на мосту Нейльи. «Амулет» напоминающий нам о карманных шахматах (этом сокровенном «вещественном символе» лужинской страсти) спрятанных за подкладкой пиджака и о его ноябрьском полубезумном письме отправленном некоей Луизе Альтман[41]. Следует сказать, что это лужинское письмо также является примером характерно набоковской множественной аллюзии. Наряду с пародийной перекличкой с «амулетом Паскаля» это письмо напоминает нам о подобно-безумном «эпистолярии» Ницше, о чем мы будем говорить подробнее. Вот что об этом «Амулете Паскаля» пишет Филиппов: «О самом обращении известно, что оно совершилось в ноябре 1654 года, в одну роковую ночь, когда Паскаль под воздействием бессонницы и долгой внутренней борьбы пришел в восторженное состояние, близкое к тому, которое овладевает иными эпилептиками перед припадком падучей болезни – состояние, обрисованное Достоевским в его “Идиоте”. Под влиянием этого экстаза Паскаль написал род исповеди, или завещания, которое зашил в подкладку своей одежды и всегда с тех пор носил при себе. Философы XVIII века сочли эту исповедь бредом помешанного; новейшие защитники Паскаля видят в ней религиозную программу, род исповедания веры.
В действительности этот документ, при всей своей бессвязности, является сжатой программой нравственно-религиозных убеждений Паскаля, но программой, написанной не вследствие глубоких размышлений о вере, а почти бессознательно, почти в бреду.
Вот это завещание, впервые опубликованное известным философом Кондорсе под названием “Амулет Паскаля”.
«Год милостью Божией 1654. Понедельник 23 ноября, в день св. Климента мученика и папы и других мучеников. Приблизительно с 10 1/2 ч. вечера до 12 1/2. ().
Усопший.
Бог Авраама, Исаака, Иакова, но не Бог философов и ученых.
Достоверность. Чувство. Радость. Мир. Бог Иисуса Христа. Твой Бог будет моим Богом. Забвение мира и всего, кроме Бога. Его можно найти лишь путями, указанными в Евангелии. Величие человеческой души. Праведный отец, мир тебя не знал, но я тебя знал. Радость, радость, радость, слезы радостей, я отделился от него: покинули меня источники живой воды. Боже мой, покинешь ли меня? Я не отделился от него навеки. Иисус Христос, Иисус Христос. Я от него отделился; я бежал от него, распял его, отрекся. Да не отделюсь от него никогда. Он сохраняется лишь путями, преподанными в Евангелии. Отречение от мира полное и сладостное. Полное подчинение Христу и моему духовному начальнику. Вечная радость за один день труда на земле. Да не забуду твоих заповедей. Аминь».
Конечно, эта исповедь – »[42].
И надо ли в связи с выдуманной Лужиным зубной болью, его шахматными бессонницами в последней главе романа вспоминать о знаменитой зубной боли Паскаля ставшей причиной бессонницы, в продолжение которой непроизвольное течение его мысли последний раз обратившейся к математическим проблемам привело его к решению проблем циклоиды[43].
Зубная боль – бессонница – непроизвольность соскальзывания в область запретной, но неутолимо манящей страсти.
Таким образом, мы увидели, что множеством биографических деталей фигура Паскаля стоит за судьбой набоковского шахматного гроссмейстера Лужина. И в годы его вундеркиндства, и во времена его психического заболевания. Но зададимся вопросом, для чего понадобились Набокову эти явные аллюзии к судьбе и творчеству Паскаля в романе «Защита Лужина». Уж, наверное, не только для того чтобы подчеркнуть вундеркиндство Лужина и последовавшее затем безумие. И откуда вообще взялась эта тема Паскаля в романе?
столько к непосредственной, прямой теме/предмету аллюзии, а к её полемической интерпретации в ближайшем культурном окружении автора. Так, например, выше мы видели, что аллегорически неявная, скрытая тема Медного Всадника - Черного шахматного коня обращена в романе не столько к непосредственно пушкинскому произведению, сколько к полемической его интерпретации в среде русских символистов: Мережковского, Брюсова, Белого и др. Подобным же образом и тема Паскаля в романе возникает под влиянием полемических статей в современной Набокову философской публицистике. Что в свою очередь актуализирует и вводит её в совершенно новый, своеобразный идейно-тематический контекст философской мысли начала ХХ-го века. То есть и тема Медного Всадника и тема Паскаля это лишь предметы философических размышлений в ближайшем Набокову культурном окружении о вполне определенных метафизических проблемах, к которым, по сути, и обращается тематический подтекст набоковского произведения. И вся выше проявленная фактологическая аллюзия к биографии Паскаля в романе лишь ведет нас к тематическому подтексту связанных с философией Паскаля размышлений представленных, например, в текстах Л. Шестова.
Тема Паскаля в произведениях Л. Шестова и её отражение в романе «Защита Лужина».

В 19 за 1924 год номере «Современных записок» продолжая серию статей, которые позднее войдут в сборник «На весах Иова»[44], печатается статья Л. Шестова «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)» к которой, в контексте темы Паскаля в набоковском романе нам следует присмотреться повнимательней.
Фигуры речи Л. Шестова обращенные к биографии Паскаля поминутно заставляют нас вспоминать о набоковском Лужине. Чтобы на указаниях и намеках, через рассмотрение тончайших сходств и различий размышлять о темах скрывающихся за этими перекличками.
Так, совершенно в унисон характеру и судьбе набоковского Лужина и дополняя все вышеприведенные совпадения образов, Шестов пишет о Паскале: «Все обновлялось, все видело в обновлении свое историческое назначение. . <…> Можно бороться, имеет ли смысл бороться с историей? Может представлять для нас интерес человек, пытающийся заставить время пойти вспять? Не осужден ли он, а вместе с ним и все его дело, на неуспех и неудачу, на бесплодность?
Двух ответов на этот вопрос быть не может. И Паскаль не избег общей участи его врагов»[45]
Здесь отражается и характерный консерватизм маленького (а затем и выросшего) Лужина, и выразительные в судьбе другого «отступника», Лужина формулы Шестова, обращенные к Паскалю «Может представлять для нас интерес человек, пытающийся заставить время пойти вспять?» «он хотел повернуть обратно "колесо времени"» и «»
Некоторые строки Шестова о трагическом мировосприятии Паскаля мы можем почти без купюр обратить к пониманию лужинской трагедии. И именно в этом созвучии проявляется критическая пародийность, сниженность набоковской образности. Там где у Паскаля Божественное мироздание – у Лужина шахматная реальность. Где Паскаль имеет дело с, казалось бы, (а в этом «казалось бы» - всё дело, главный критический посыл набоковского высказывания в романе) объективной реальностью, там Лужин отчетливо демонстрирует нам иллюзорно-субъективный характер его собственного, персонального шахматного мира-наваждения. И эта персональная иллюзорность проблематизирует паскалеву (а далее и всякую иную) действительность. И не зря Шестов берет это слово «действительность» в кавычки, а Набоков на примере шахматной «действительности» Лужина раскрывает природу и характер этих кавычек. Эти слова Шестова звучат как своеобразная преамбула, фрагмент метафизического предисловия к роману.
«Его (Паскаля. Но здесь и далее также читай – Лужина. – С. С.) «действительность» совершенно не похожа на действительность всех людей. Все люди обычно чувствуют себя хорошо и испытывают очень редко мучительную боль и тревогу и совсем даже не допускают возможности беспричинных страхов. У всех людей под ногами всегда прочная почва, .
Но разве действительность перестает быть действительной, раз она необычна? И разве мы вправе отвергать те условия бытия, которые редко встречаются? Люди практики естественно не интересуются исключениями — им важно только правило, правильное, постоянно повторяющееся. Но философия — у нее ведь другие задачи. Если бы внезапно с луны или с иной планеты (или, например, из мира фигурного шахматного зазеркалья. – С. С.) свалился бы человек, который бы захотел и сумел рассказать нам, как живут непохожие на нас существа в иных мирах, — он был бы для нас драгоценнейшей находкой. Паскаль, как и Ницше, как и еще многие, о которых здесь я говорить не могу, ведь и есть те люди из иного мира, о которых мечтает философия. Из мира, так не похожего на наш мир, где то, что для нас является правилом, бывает лишь как исключение и где постоянно бывает то, что у нас почти никогда или даже совсем никогда не встречается. У нас никогда не бывает, чтоб люди ходили над бездной. У нас ходят по земле. Потому основной закон нашего мира — закон тяготения: все стремится к центру. Никогда не бывает у нас, чтобы человек жил в непрерывной пыткеА там — нет легкости, одни трудности, нет и покоя и отдыха — вечная тревога, нет сна — постоянное бдение. Можем ли мы рассчитывать, чтобы там были те истины, которые мы привыкли здесь чтить? Не говорит ли все за то, что наши истины там почитаются ложью, и то, что здесь отвергается, там представляется высшим достижением. Здесь последний суд — суд Рима, здесь последние критерии — критерии разума. Там единственный судья тот, к которому воззвал Паскаль — ad te, Domine, appello. Ne cherchons donc pas l'assurance et la fenneté![46]»[47].
Ницше - Паскаль
Мы уже отмечали «Ницше-Достоевский» диагноз лечащего врача Лужина в романе; намекали на отголосок ницшеанского богоборчества в безумной лужинской «защите», и ницшеанской «воли к власти» в шахматно-игровом выборе Лужина. Об этих и других отражениях ницшеанской тематики в романе мы ещё будем говорить подробнее, но уже здесь, подчеркивая идейное единство и тематическую взаимосвязность подтекста укажем, например, на характерное соединение тем Паскаля и Ницше в статье Л. Шестова. Мы уже видели, как тема Ницше в самом кульминационном пункте, «на вершине европейской философии» вошла в контекст темы Медного Всадника в произведениях Мережковского. Отмечали интерес молодого Набокова к около-ницшеанской тематике. И продолжая раскрывать сложно превращенную тему Ницше в набоковском творчестве, рассмотрим её преломление в работах Шестова и последующее отражение в третьем набоковском романе.
Ницше и Паскаль взятые сквозь завуалированную полемику Набокова с Шестовым подобны двум зеркальным близнецам из шахматной сказки Л. Кэрролла - Твидлдам и Твидлди. Схожи их трагические судьбы, происходящие из их взглядов определяющих целостную интенцию сознания. Взглядов противоположных до непримиримости. Они как зеркальное отражение друг друга – наоборотны, но очень похожи друг на друга. Как черно-белые шахматные фигуры - подобные, но непримиримо противостоящие.
Две фигуры, с подачи Л. Шестова тематическим фоном стоят за проблемой трагической судьбы набоковского Лужина. Актуализируя и раскрывая авторское высказывание в подтексте её изложения. Это Паскаль и Ницше. Два трагических персонажа шестовских тем богоприятия и богоборчества, болезни и предельного состояния сознания, столкновение сознания и веры.
Сравнивая судьбы и взгляды Паскаля и Ницше, Шестов указывает на трагическое единство их несчастий, болезней лежащих в основе метафизического вопрошания обоих философов. И далее, снова вспоминает Шестов о заглавном герое многих своих теологических размышлений – о библейском Иове.
«бого-человека» (или как мы её еще обозначили в набоковском литературоведческом контексте – проблемы «Автора и персонажа»), за которыми Шестов провидит историю библейского Иова. Ветхозаветная история «Автора и персонажа» доведенная до максимальной степени напряженности.
Главные «фигуранты» шестовских текстов – люди, что называется, «богом обиженные». Больной, бунтующий Ницше, больной, но прославляющий свою болезнь Паскаль, больной Къеркегор. Взятые в момент физического и духовного кризиса Достоевский, Толстой, Чехов. И за ними, как концентрированно-обобщающий пример или антитезу Шестов провидит образ библейского Иова. Болезни Ницше или Паскаля – представлены как явление лежащее в самом корне человеческого существования.
И читая о человеческой трагедии как источнике «философий» двух этих мыслителей, нам следует помнить, что и трагический узор лужинской судьбы в романе Набокова также происходит из психологической травмы из трагедии детского одиночества, обид и непонимания. Что и тут и там перед нами различные разновидности компенсаторной реакции сознания на несовершенство и жестокость мира. Что мы имеем дело не с моралистическими назиданиями, неуместными во всех этих случаях, а с трагичностью человеческой жизни. Положения, выводы, ответы на эти трагические предпосылки в упомянутых историях во многом, конечно же, различны, но смоделированная Набоковым судьба Лужина, как множеством деталей на поверхности текста, так и тематическим звучанием в глубинном её течении отчетливо обращается к осмыслению проблем поставленных Л. Шестовым.
И Шестов, прочерчивая ото всех этих историй линию к судьбе Иова берет проблему в её предельной точке в напряженности бого-человеческого отношения.
Тогда как Набоков (сохраняя в подтексте всю полноту и глубину шестовского предельного ракурса) берет эту проблему «обиженности» в её социальном срезе.
этой пропасти и возможность её преодоление, полет или падение. И иррациональная в своем основание набоковская теодицея (уяснением которой мы здесь и занимаемся) опирается, в свою очередь, на вполне рациональные выразительные конструкции художественного текста. И трагическую ситуацию он моделирует в романе в социальной плоскости и далее еще уже, в сфере творческого самораскрытия человека, показывая источник трагедии, условия и роль творческой активности. Сопрягая её с проблемой Дара, когда ошибочно-утилитарная интенция сознания ведет к угасанию Дара, сопровождающемуся угасанием личности и фигурно механическим превращением сознания, и к добровольной смерти человека.
Фигуры Паскаля и Ницше в набоковском романе актуализируются легкими мазками на поверхности того или иного образа, говорящими аллюзиями, тематическими повторами и подобиями в подводных слоях текста. И начав говорить о теме Паскаля в романе мы уже рассмотрели внешние, поверхностные ее приметы. Позднее мы рассмотрим подобную перекличку знаковых деталей обращенных в набоковском романе и к судьбе Ницше.
Но уже сейчас нам хотелось бы, чтобы читатель удерживал в сознании связь паскалевой темы в романе с темой Ницше.
Итак, подобно тому, как «социальная пытка», унижение, обида, являются исходными пунктами лужинского самоопределения в жизни, судьбы Паскаля и Ницше отмечены болезнями, пытками природными/божественными. Как маленький, одинокий Лужин был обижен людьми, так Паскаль и Ницше были обижены Богом. Говоря об их болезнях Шестов пишет: «Вся эта непрерывная почти пытка, что она такое, кто ее создал? И для чего? Мы хотим думать, что так спрашивать нельзя. Никто не уготовлял пытки для Паскаля, и она ни для чего не нужна. По-нашему, тут нет и не может быть никакого вопроса. Но для Паскаля, как и для мифического Иова, как и для жившего между нами Ницше, тут, именно тут и скрываются все вопросы, которые могут иметь значение для человека. «отсталому» Паскалю и полудикому Иову, обратимся к свидетельству «передового» Ницше. Он нам расскажет: "что до моей болезни, я ей несомненно большим обязан, чем своему здоровью. Я ей обязан всей моей философией. Только великая боль — последний освободитель духа. Она учит великому подозрению, она из каждого U делает X, истинный, настоящий X, т. е. предпоследнюю букву пред последней. Только великая боль, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораем на сырых дровах, только эта боль заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины, и все доверчивое, добродушное, прикрывающее, мягкое, в чем, быть может, мы сами прежде полагали свою человечность, отбросить от себя". Паскаль мог бы буквально повторить эти слова Ницше, и с равным правом. Да он это и говорит в своей удивительной "Priére pour demander à Dieu le bon usage des maladies" (Op. I, 3).[114] «Верующий» Паскаль и «неверующий» Ницше, Паскаль, устремивший все помыслы свои назад, к средневековью, и Ницше, весь живший в будущем, в своих свидетельских показаниях совершенно сходятся. И не только в своих показаниях они так близки друг к другу. Их «философии» для того, кто готов отвлечься от слов и под непохожими облачениями умеет разглядеть тождественную сущность, представляются почти совпадающими в самом главном. Нужно только помнить то, что люди охотнее всего забывают и что с такой силой когда-то выразил монах Лютер в своем комментарии к Посланию к Римлянам, написанном им задолго до разрыва с Церковью: Blasphemiæ… aliquando gratiores sonant in aure Dei quam ipsum Alleluja vel quæcumque laudis jubilatio. Quanto enim horribilior et fedior est blasphemia, tanto est Deo gratior"[48]. Сличая horribiles blasphemiæ[49] Ницше и laudis jubilationes[50] Паскаля, столь разные и столь безразличные для уха современного человека и столь близкие и ценные для Бога, если верить Лютеру, начинаешь думать, что на этот раз «умная» история была обойдена. И что, вопреки всем ее приговорам, убитый ею Паскаль воскрес через два столетия в Ницше. Или все же история добилась своего? И ему все удивляются, но никто его не слышит?»[51]
Ницше здесь у Шестова даже не двойник Паскаля, а его реинкарнация.
К числу единых тем в судьбах и взглядах Паскаля и Ницше продолженных в набоковском романе следует отнести и тему покорности судьбе «amor fati». Выразительно-каламбурно звучащая сквозь ошибочно услышанную фамилию персонифицированного лужинского рока – Валентинова, «Фа…Фа…Фати»(235) эта тема опирается в своем основании и происхождении на богатое оттенками рассмотрение её в текстах Паскаля, Ницше, Шестова.
Проблему покорности судьбе в учении Пакаля Шестов берет в ракурсе человеческой покорности «вечным и нематериальным идеям», разуму. И в этом развороте идеи, отчетливо отражается лужинская борьба с шахматным идеальным, с объективным, отчужденным, враждебным, но прекрасно-гармонически-рациональным шахматным «логосом». Лужин, на свой, полубезумный, манер участвует в безнадежной борьбе с шахматным рациональным. Безнадежной, потому что Лужин – шахматная фигура борется исключительно оружием «соперника» и всецело на его (шахматном же) поле. У него нет другого мира кроме шахматного, для фигуры на шахматной доске не существует третьего измерения.
«Его покорность судьбе мало похожа на покорность стоиков»[52]. В требовании достижения высшей гармонии человеку следует покориться велениям разума.
«Задача разума в том и заключается, чтобы ввести в мироздание порядок, потому и дана ему власть требовать от всех покорности»[53].
«Разум стоиков, как и разум Паскаля, совершенно ясно усматривал, что если не убьешь нашего Я, то никогда ни к какому единству и ни к какому порядку не придешь»
«Последнее же назначение, призвание человека — смириться пред требованиями разума и морали, покориться самодовлеющим началам и принципам
Всему этому, подчеркиваю, учили «философы», и все это за философами повторял Паскаль. Но, странным образом, повторяя философов, он говорил прямо противоположное»[54].
«Ибо — этого никогда нельзя забывать — есть самое непокорное, стало быть, самое непонятное, самое иррациональное из всего того, что есть в этом мире. «Понимание» возможно лишь тогда, когда человеческое Я лишается всех своих особых прав и преимуществ, когда оно становится «вещью» или «явлением» среди остальных вещей и явлений природы[55]. , который отверг Паскаль и при котором «средневековая» идея о спасении души становится воплощением всех нелепостей, — либо капризное, ропщущее, беспокойное, тоскующее Я, никогда не соглашающееся добровольно признать над собой власть «истин» — будут ли они материальные или идеальные»[56].
Как не узнать в этом шестовском напряженном противопоставлении в судьбе и учении Паскаля лужинской борьбы в мире идеального, ненарушимого шахматного порядка «с его вечными и нематериальными истинами». Борьбы за право отстоять свое человеческое ««истин»». Вот откуда идет отчетливо звучащая в романе тема противопоставления живой, богатой возможностями, иррациональной в своих источниках человеческой жизни (до-шахматное детство Лужина, мировосприятие его жены, теплый и уютный, спасительный сон жизни, в который Лужин прячется от своей шахматной реальности) и абстрактно-кристалической, идеальной шахматной вселенной, выступающей в данном случае лишь как аллегория, символ разумно-рационального, логического, объективно-всеобщего.
Это внутреннее противоречие в судьбе и учении Паскаля Шестов обнажает, доводит до последних пределов в размышлении о иррациональности человеческого Я, о единственной возможности сбросить с себя бремя «объективных истин» (представленных в набоковском романе кристаллическим совершенством шахматной логики).
«Но кто, как Паскаль, в «понимании» видит начало смерти и кто в борьбе со смертью видит свое призвание, может ли такой мыслитель ненавидеть Я? Ведь в Я и только в Я с его иррациональностью залог возможности освободиться от гипноза математической истины, которую философы за ее «нематериальность» и «вечность» поставили на место Бога». Так на примере трагической судьбы и учения Паскаля Шестов ставит проблему и намечает основные контуры экзистенциального её разрешения. Набоков же непосредственно отталкиваясь от этой постановки вопроса и в целом оставаясь в русле шестовского решения, в своем романе акцентирует внимание на существенных деталях, представляет иной ракурс рассмотрения этих проблем. Иррациональные основания человеческого Я, на которые Шестов возлагает надежды на спасение «от гипноза математической истины» Набоковым проблематизируются. Темной (черной в шахматной дихотомии) иррациональности безумия противопоставляется светлая (белая) иррациональность поэтического вдохновения. Бунт, борьба, «защита» окончательно «загипнотизированного» миром «математической истины» полу-человека полу-фигуры ведет к окончательной деперсонализации, безумию, бездне и падению. Черный шахматный конь падает на вновь разворачивающееся под ним шахматное поле. Кошмар неизбывного ницшеанского «Вечного возвращения», замкнутый круг на плоскости геометрически-фигурного, подневольного, двумерно-шахматного бытия. Тогда как творчески-активное Я человека обращенного к вольно-любовному сотворчеству «Автору сего мира» действительно освобождается «от гипноза математической истины». У края шахматной доски математических истин, «над самой бездной» иррационального, «беззаконный ход коня» «с наклонной скалы» в пустоту превращается в полет Пегаса.
Над крутизной огромный белый конь,
как лебедь, плещет белыми крылами,-
и вот взвился, и в тучи, над скалами,
плеснул копыт серебряный огонь[57].
полноту, богатство и полемическую напряженность в современной Набокову философской литературе.
«… почему мы знаем, что они равняются двум прямым»
Кстати снова припомним здесь незадачливого маленького Петрищева, пытающегося в классе выяснить «почему мы знаем, что они равняются двум прямым»(120)«И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый, деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко и невпопад стукнуло сердце»(120). Выше мы показали как эта, упомянутая Петрищевым 32-я теорема Евклида обращена к теме вундеркиндства Паскаля. Но тут мы подробнее рассмотрим отмеченную выше характерно набоковскую многозначность и поли-адресацию этой аллюзии. Другим её адресатом, вскрывающим совершенно иной круг проблем связанных с рассматриваемым нами всевластием и объективностью рациональной идеальности, «законничества», предельно воплощаемых в геометрических закономерностях, в законах формальной логики, в правилах и изощренной сложности шахматной игры, является ставшая усилиями Шестова своеобразным символом веры максима Спинозы. Раскрывая происхождение этого символа, в книге «Potestas clavium – Власть ключей», вышедшей в феврале 1923 года, в издательстве «Скифы», Шестов пишет: «Вот как говорит Спиноза в одном из своих писем (LXXIV): "ego non præsumo, me optimam invenisse philosophiam, sed veram me intelligere scio. Quomodo autem id sciam, si rogas, respondebo: eodem modo ac tu scis tres angulos trianguli æquales esse duobus rectis; et hoc sufficere negabit nemo, cui sanum est cerebrum"[58]. И всякий философ должен повторить вслед за Спинозой эти слова: "я не предполагаю, что выдумал лучшую философию, я знаю, что постиг истинную. И если ты меня спросишь, откуда я это знаю, я отвечу: оттуда же, откуда ты знаешь[59], что сумма углов треугольника равняется двум прямым. И что этого достаточно - не станет отрицать никто, у кого здоровый мозг". Спиноза только смелей, последовательней и откровенней других философов»[60]. Обратим внимание и на принуждающую претензию на объективную всеобщность подобных геометрических идей-«истин», и на апелляцию к психическому здоровью. Проблемы решаемые в набоковской символической системе координат в рассмотрении двузначности символа беззаконного хода коня в пустоту. Поэтической фантазии, беззаконности божественного вдохновения (Пегас) и темного безумия (Черный шахматный конь).
И далее этот характерный принцип «геометрической очевидности» превращаемый им в символ расхожего, обыденного, общепринятого здравомыслия философов Шестов употребляет в самых разных случаях.
- Говоря о взглядах Августина в 27 главе («Страшный суд») этой же книги он пишет:
«Но тут у Августина слышно иное. Он утверждает, что даже и для не читавшего Писания должно быть очевидно, что сотворить человека, не спрашивая его, Бог мог, но спасти человека, не справляясь с его желанием он уже не может: для Августина это - выражаясь излюбленным сравнением Спинозы - столь же несомненно, как и то, что сумма углов треугольника равняется двум прямым. Оправдание, по убеждению Августина, нужно заслужить хоть чем-нибудь»[61].
«Современные Записки», в статье «Сыновья и пасынки времени (Исторический жребий Спинозы)», посвященной теме «убийства Бога» Спинозой, когда «на место Бога поставлена объективная, математическая, разумная необходимость или идея человеческого добра, ничем от разумной необходимости не отличающаяся», Шестов снова обращается к «геометрическому аргументу» Спинозы. Он снова повторяет: «Когда один из его корреспондентов упрекнул его в том, что он считает свою философию лучшей философией, он ему резко ответил: не лучшей считаю, а истинной. И если спросишь, почему, скажу, потому же, почему ты считаешь, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым»[62]
И снова, уже максимально приближенно к набоковской работе над «Защитой Лужина» Шестов раскрывает этот аргумент Спинозы в статье «Что такое истина? (Об этике и онтологии)» опубликованной в 30-м, январском за 1927 г. номере «Современных Записок»«Ужас». А непосредственно предшествовала шестовской статье статья В. Ходасевича «Глуповатость поэзии». Представляется, что в ту «бессонную ночь», которая чувствуется в этих геометрических образах в романе, Набоков припоминал именно шестовские рассуждения на аналогичные темы и ближайшим образом эту статью, соседствующую с его рассказом «Ужас» в январском 1927 г. номере «Современных Записок».
И здесь Шестов в напряженном противоречии снова сталкивает спинозовское прославление истинной философии («И знает он, что она истинная потому же, почему его корреспондент знает, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым») с его же вожделением философии наилучшей.
«Как же примирить мысль Спинозы, что образцом для философии должна быть наука математика, с его страстными гимнами на тему sub specie æternitatis? Отвечу прямо: примирить никак нельзя. Это основное и, если хотите, заранее обдуманное, предумышленное противоречие спинозовской системы. Когда он говорит о своих методах искания, он уверяет, что ему нет никакого дела до живого человека с его желаниями, страхами, упованиями. Когда он пытается показать свою последнюю истину, он о математике забывает, забывает и о данных им торжественных обетах non ridere, non lugere, neque detestari[63]. Ему нужно знать, "an aliquid daretur, quo invento et acquisito continua ac summa in æterno fruerer lætitia"[64]. Математике, конечно, нет дела до человеческих радостей, будут ли они вечными и высокими или преходящими и низкими. Тоже для математика не имеют смысла такие слова: "sed amor erga rem æternam et infinitam sola lætitia pascit animum, ipsaque omnis tristitiæ est expers; quod valde est desiderandum, totisque viribus quærendum" (De intell. emend.)[65]. Математик устанавливает, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым или что отношение окружности к диаметру постоянная величина, - этим дело его и кончается. И если Спиноза нашел что-то такое, что дало ему возможность вознестись в те области, где нет печали и воздыхания и есть лишь одни непрерывные радости, то, конечно, не потому, что он в математике обрел normam veritatis. И, наконец, - это самое главное - уже совершенно бесспорно, что философия, которая дает чистую радость и освобождает от печалей, никак уже не может сказать про себя, что она только vera philosophia (истинная философия): она есть optima philosophia (лучшая философия) в самом строгом смысле этого слова. Она приносит summum bonum - quod est valde desiderandum, totisque viribus quærendum[66]»[67].
И это противоречие между «vera philosophia (истинная философия)» и «optima philosophia (лучшая философия)» - вовсе не оторванная от жизни схоластическая казуистика, а лежащее в основании любой человеческой трагедии расщепление обще-объективного и индивидуального. Логико-математическая объективность, vera philosophia Спинозы, Гуссерля противопоставляется Шестовым трагическим историям библейского Иова, Христа. Шахматно-логический инвариант vera philosophia улавливает в свои сети одинокого, бунтующего, пытающегося спастись, выпутаться Лужина. И мы помним, как называлось кинематографическое королевство иллюзий, которым заправлял Валентинов, этот «злой дух», персонифицированный рок лужинской судьбы.
Ведь именно этим противопоставлением раскрывается трагическое двуединство предмета лужинской страсти: «Все было прекрасно, все переливы любви, все излучины и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна»(244), «В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат?»(177) Сияющее кристаллическая шахматно-математическая логика прекрасна в своем недосягаемом совершенстве, но она равнодушна к судьбе отдельного человека, она лишь зеркально возвращает человеку то с чем он приходит к ней и легко превращается в страсть гибельную.
«Выражаясь языком Спинозы - пишет Шестов, - философия хочет быть истинной, а не лучшей, а между "истинным" и "лучшим" нет никакой внутренней связи. Библейский Иов говорит: если бы мою горесть и мои страдания на весы положили, то они были бы тяжелее песка морского. Он думает, что есть такие весы, на которых можно взвешивать и страдания человеческие, и песок морской, и что бывают случаи, когда человеческие страдания перевешивают своей тяжестью морской песок. Но Гуссерль, конечно, даже не станет обсуждать слова Иова: они явно "бессмысленны". Нет таких весов, на которых то, что испытывает человек, перевешивало бы тяжесть физических тел. То, что мы считаем optimum - важным, значительным, совершенно несоизмеримо с тем, что есть verum. Сколько бы ни сыпали на одну чашу весов человеческого "optimum", если на другой чаше весов есть хоть горсточка песку, она всегда перетянет. Это - основное и самое очевидное положение философии, которая хочет быть строгой наукой. И если вы спросите философа - откуда он это знает - он, вслед за Спинозой, ответит вам: eodem modo ас tu scis, tres angulos trianguli æquales esse duobus rectis (оттуда, откуда ты знаешь, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым), Иова же, который будет продолжать вопить, он резко оборвет: non ridere, non lugere, neque detestari[68]. И не только Иову, но и тому, кого Hering называет Logos-Messias, когда он "возопил": Господи, отчего ты меня покинул, - философ мог бы твердо заявить: intellectus et voluntas, qui Dei essentiam constituerent, a nostro intellectu et voluntate toto coelo differre deberent... non aliter scilicet, quam inter se conveniunt canis, signum coeleste, et canis, animal latrans[69]. Ответы, как видите, совершенно исчерпывающие. И Иов, и Logos-Messias поставлены на свое место: они должны преклониться пред истиной и умолкнуть. Если же они не умолкнут и будут продолжать вопить, их вопли философ будет исследовать с тем же равнодушием и спокойствием, с каким он исследует перпендикуляры, плоскости, круги... Так оно, собственно, и должно быть»[70].
В набоковском романе геометрическое вопрошание Петрищева обращенное и указывающее на шестовскую проблематику идеального, несомненно, тематически связано с математическим увлечением «беззаконной игрой геометрических линий» самого маленького Лужина. Вспомним, характерно иносказательное описание его опытов преодоления математической неизбежности:
«Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, - в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечной стезе. Но, при помощи линейки, он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии»(113).
«беззаконный опыт», взятый в обще-тематическом контексте будущего порабощения взрослого человека-гроссмейстера Лужина шахматно-математической законосообразностью, необходимостью, фигурностью представляет как одну из возможностей чудесного преодоления этого порабощения, так и будучи взятым в темной ипостаси безумия предостерегает отчаянный волюнтаризм живущего в шахматном зазеркалье сумасшедшего, пытающегося через обычное окно убежать от своих шахматных призраков, от самого себя. Это описание чудесного преодоления геометрической необходимости, так же как и вопрошание Петрищева характерностью образа снова указывает на шестовскую борьбу с Идеями.
В 1923 году, вслед за 13 и 15 номерами «Современных Записок» в 1-м номере парижского трехмесячника литературы «Окно» продолжилась публикация книги Л. Шестова с характерным названием «Дерзновения и покорности». В парижском журнале «Окно» под заглавием «Из книги «Странствование по душам»» были напечатаны афоризмы с 21 по 52. И как не важно в контексте понимания полноты метафизических смыслов третьего набоковского романа ознакомление со всей этой книгой Льва Шестова, попробую обозначить наиболее выразительные в данном контексте параллели. В частности, тема геометрически-идеальной необходимости и возможности детского её преодоления в романе предельно созвучна XXIV и XXV (соотв. в парижском издании IV и V) афоризмам Шестова.
В довольно саркастическом 4-м афоризме Шестов раскрывает аргументацию объективных метафизик, подчеркивая рабский, фигурный удел, отводимый исповедующему подобные воззрения человеку. Геометрическая аллегоричность этого рассуждения отчетливо перекликается со смысловой аллегоричностью шахматного набоковского романа и особенно с аллегоричностью геометрических лужинских увлечений. И дальше, в 5-м афоризме Шестов подробно пишет о той детской вольности, катастрофической для общеобязательной логики, которую столь изящно демонстрирует маленький Лужин по отношению к неизбежно пересекающимся линиям, «демиургически» он «просто чертил их заново». Обратим особое внимание на набоковское «немыслимая катастрофа» и шестовские «"страшное дитя" - enfant terrible», «знание <…> прямо опасное».
Приведем эти афоризмы целиком:
IV
«. Идеи живут совершенно самостоятельной, свободной и автономной жизнью. Точно бы людей и совсем на свете не было. Приходят неизвестно откуда, уходят неизвестно куда, потом снова возвращаются, если им заблагорассудится. И мы "понимаем" это, нам кажется, что это хорошо, что так и быть должно, что это вполне соответствует высшим постижениям нашим, заимствованным у "королевской" науки - математики. У математика есть идея прямой, точки, плоскости. Плоскость, ограниченная тремя пересекающимися прямыми, - дает треугольник. В треугольнике - сумма углов равняется двум прямым, биссектрисы пересекаются в одной точке, медианы тоже пересекаются в одной точке и т. д. Идеи порождают с необходимостью, столь отрадной для нас, новые идеи. Именно с необходимостью и именно с отрадной, ибо снимают с нас всякую ответственность за их действия и дают нам пример образцового постоянства, неизменности и совершенной покорности высшему закону. Медианы и биссектрисы никак не отвертятся от своей судьбы: сегодня, вчера и завтра, в настоящем, в бесконечном прошлом и в бесконечном будущем, пред лицом людей, ангелов и дьяволов пересекались, пересекаются и будут пересекаться в одной точке. Они не боятся всеистребляющего времени. Даже сам Бог ничего не может изменить в установленном от века ordo et connexio тех вещей, которые именуются треугольниками, биссектрисами, медианами и т. д. Их природа неизменна. Треугольник вполне доволен собой и никогда не питал зависти ни к четырехугольнику, ни даже к кругу. И даже точки окружности никогда не стремились добиться привилегированного положения центра, и не было случая в истории, чтоб какая-нибудь обыкновенная точка возмутилась своей судьбой, захотела бы тоже быть центром и возроптала бы. И, если бы люди попытались подговорить точки к непокорности рассуждениями о равенстве всех и т. п., точки, которые, конечно, знают рациональную философию - от них же она получила свое начало, - ответили бы им: воля и разум точек, как и всякого идеального существа, toto coelo отличается от воли и разума человека. В конце концов только одни и те же слова, вроде того, как одним и тем же словом называют и созвездие Пса и пса, лающее животное. и человек - вынырнет на мгновение из вечности и вновь в вечности тонет. Так что, если вы хотите приобщиться к вечности - а кто этого не хочет? - вы должны прежде всего уподобиться нам и перестать допрашивать "идеи" об источниках их высокого бытия. Пусть приходят и уходят откуда им угодно и куда им угодно, пусть они живут своей самостоятельной жизнью, плодятся и множатся сообразно своим собственным законам. Они ведь той же сущности, что и мы, точки, как и те законы, которым послушно, без возмутительного ропота, повинуемся и мы, и они. Лучшее, чего вы, люди, существа реальные, можете достигнуть, - это уподобиться нам, существам идеальным. Когда вы это поймете, когда вы сольетесь с нами в единое и вечное бытие, вы сразу положите конец той нечестивой тревоге, которую вы внесли своим бытием в спокойную гармонию всегда довольного собой изначального мира. Ваша тревога - ваша вполне заслуженная кара; уже давно мудрейшие из вас постигли эту великую истину. Хотите избавиться от мук - покоритесь идеям, обратитесь сами в идеи. В этом и только в этом ваше спасение.
V
Enfant terrible.<<*52>> "судят", не считаясь ни с физическими, ни с социальными условиями существования. Каждое почти дитя в известном смысле "страшное дитя" - enfant terrible. Заботливая мать ни на минуту не спускает глаз со своего ребенка. Она основательно боится, что, предоставленный самому себе, он натворит бед: скажет не то, что нужно, сделает не так, как полагается, ибо у него нет еще "знания", которое есть у взрослых. Дети до тех пор подлежат опеке, пока они не приобретут житейского опыта, т. е. пока они не научатся ограничивать себя в той степени, в какой это требуется, чтобы существовать в нашем мире. Очевидно, стало быть, что "относительные" знания, т. е. знания, определяющиеся условиями нашего земного существования, у взрослых. У детей же безотносительные, абсолютные, но практически не только не годные, но прямо опасные. К сожалению, этого не хотят видеть. Даже проникновенный Плотин был уверен в противном: "в детстве, - говорит он, - мы упражняем способности, которые принадлежат к сложному нашему существу (т. е. к ограниченному), и высший принцип редко посылает нам свет с своей высоты" (Еnn. I, 1,11). Отсюда заключают, что знание детей должно быть совершенно отвергнуто. По-моему - это большое и очень печальное заблуждение. Должно было бы быть как раз наоборот. Мы должны были бы учиться у детей и ждать от них откровений. Весь наш философский интерес, вся наша "чистая" любознательность должна была быть направлена к тому, чтобы восстановить в своей памяти то, что мы восприняли в счастливую пору, когда для нас были еще новы все впечатления бытия и когда мы воспринимали действительность, не подчиняясь постулатам, диктуемым практическими нуждами. Если мы хотим "абсолютного" знания, если мы хотим видеть "непосредственно", как видит живое и разумное существо, не связанное "предпосылками", не умеющее еще ничего бояться и не боящееся даже быть "страшным" - terrible, первой заповедью для нас должно быть: будьте, как дети. Но это не дано взрослым. "прокладывают себе путь" в жизнь - им некогда вспоминать. Да и кому охота превратиться в enfant terrible! Только старики, особенно глубокие, очень глубокие старики, да люди, у которых "нет будущего", живут прошлым, и больше всего отдаленным прошлым, своей ранней молодостью, детством. Но стариков так же мало слушают, как и детей, как и "лишних" людей. Да и говорить-то они не очень умеют, тоже как дети: их всегда легко разбить логическими доводами... И люди остаются при ограниченном знании, полезном и не страшном, и даже создали "постулат", что такое знание есть самое совершенное»[71].
Вот какие круги на воде сокрытых смыслов оставляют с виду незначительные детали образов в набоковском произведении.
Некоторые цитаты, приводимые Шестовым из сочинений Спинозы, в своей неоднозначности прямо-таки просятся занять место метафизического эпиграфа к набоковскому роману. "de affectuum natura et viribus, ac Mentis in eosdem, potentia, eadem Methodo agam, qua in præcedentibus de Deo et mente egi, et humanas actiones atque appetitus considerabo perinde, ac si quæstio de lineis, planis aut de corporibus esset". – «Я буду трактовать о природе и силах аффектов и могуществе над ними души по тому же методу, следуя которому я трактовал в предыдущих частях о Боге и душе, и буду рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах (лат.)»[72]. Разве не изучение природы страсти, её рокового влияния на душу человека и неизбежности трагического финала становится предметом рассмотрения в изучаемом нами романе вочеловечившихся шахматных фигур или порабощенного шахматной фигурностью человека, «как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах»? Своеобразная набоковская пародия на «геометрический» метод Спинозы.
Бездна
– это тема «Бездны». И снова Шестов соединяет её с темами Ницше. Так, он пишет об образе бездны в судьбе Паскаля указывая и на её роль в судьбе Ницше. Об отражениях этой темы в текстах Мережковского, Белого, в связи с символом Медного Всадника (стоящего «на высоте», «над самой бездной») мы говорили выше. Продолжим разработку подтекста этого образа из набоковского романа во взятых сквозь призму шестовской интерпретации судьбах Паскаля и Ницше. Приведем его рассуждение целиком:
«Аббат Буало, - пишет Шестов, - между прочим, рассказывает о Паскале: "се grand esprit croyait toujours voir un abîme à son côté gauche, et у faisait mettre une chaise pour se rassurer: je sais l'histoire d'original. Ses amis, son confesseur, son directeur avaient beau lui dire qu'il n'y avait rien à craindre, que ce n'étaient que les alarmes d'une imagination épuisée par une étude abstraite et métaphysique; il convenait de tout cela avec eux, et un quart d'heure après il se creusait de nouveau le précipice qui l'effrayait"[73].
Нет возможности проверить, насколько рассказ аббата соответствует действительности. Но, если судить по сочинениям Паскаля, нужно думать, что аббат рассказывал правду. Все, что писал Паскаль, говорит нам о том, что вместо прочной почвы под собой он всегда видел и чувствовал пропасть (). В этом рассказе можно усмотреть только одну неточность: пропасть была, по-видимому, не по левую руку Паскаля, а под его ногами[74]. Все остальное правдиво рассказано или угадано. Даже верно, по-видимому, что Паскаль закрывался от пропасти стулом[75]. "Nous courrons sans souci, — это уже рассказывает не аббат, а Паскаль сам, — dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir"[76].
Так что если рассказ аббата — выдумка, то это выдумка ясновидящего, умевшего разглядывать в темноте, в которой для других все сливается в одну серую безразличность.
и почти не знал сна (то же было у Ницше), так нельзя сомневаться, что вместо твердой почвы под ногами, которую ощущают все люди, он чувствовал, что стоит над пропастью, что опереться не на что, что если отдаться «естественному» тяготению к центру, то провалишься в бездонную глубину. Об этом, и только об этом, рассказывают нам все его «мысли». Оттуда и его «страхи», такие необычные, неожиданные, ни на чем не основанные, — его "lе silence éternel de ces espaces infinis m'effraie"[77] и т. п., с которыми не могли справиться ни его друзья, ни его духовник»[78]. далее у Шестова выходит на передний план. А так же отметим предельное сходство последних слов этого размышления с сюжетными ходами, темами и образами набоковского романа. Это и ««естественное» тяготение к центру» (просматривающееся в набоковских образах кружащегося вокруг пламени лампы мотылька, велосипедиста едущего по краю канавы (сниженный образ «притяжения бездны»)), «бездонная глубина», «необычные, неожиданные, ни на чем не основанные «страхи»», беспомощность окружающих в попытках помочь, спасти.
Примечательно, что этот страх и притяжение бездны в сознании Паскаля впоследствии стали расхожими примерами, своеобразным штампом в психологических трудах. И подобно истории о вундеркиндстве Паскаля могли встречаться Набокову в самых разных изложениях и источниках.

Так, Джемс Сёлли в книге «Гениальность и помешательство», изданной в 1895 г. пишет: «странная идея мадамъ де-Сталь, что она будетъ зябнуть въ своей могиле, могутъ считаться примерами настоящихъ idées fixes. Более серьезный примеръ мы видимъ въ бiографiи Паскаля: говорятъ, что онъ страшно боялся бездны, зiяющей передъ нимъ, и эта боязнь была такъ велика, что иногда его приходилось привязывать съ целью удержать отъ прыжка въ пропасть. Ясно, что здесь мы видимъ настоящую галлюцинацiю или обманъ чувствъ»[79].
которыми разверзлась эта бездна, не ограничивается только лишь психологической стороной рассмотрения паскалевой бездны. «Ужасная, бессмысленная болезнь и тоже ужасная, бессмысленная пропасть». «Бездна» берется им также и как источник философии Паскаля, как он пишет - «благодатный дар». В контексте рассматриваемого нами романа и проблемы двуединства шахмат в судьбе Лужина и возможности вылечить и спасти его отметьте эти выразительно противоречивые эпитеты: «ужасная, бессмысленная болезнь и тоже ужасная, бессмысленная пропасть» - и она же - «благодатный дар».
«Мы помним, что рассказывали биографы и ясновидящие о Паскале: ужасная, бессмысленная болезнь и тоже ужасная, бессмысленная пропасть. Даже духовные руководители его из янсенистов лечили его от болезни и всячески старались закрыть от него пропасть.
А меж тем «болезнь» Паскаля и его «пропасть», по-видимому, и были тем загадочным толчком, тем благодатным даром, без которого Паскалю никогда не открылась бы его истина. Паскаль вправе был бы повторить вслед за Ницше: своей болезни я обязан своей философией. — не было бы паскалевской философии. Все, что Паскаль рассказывает в своих Pensées, сводится к описанию пропасти. Происходит на наших глазах чудо из чудес. Паскаль постепенно приучается любить пропасть. Нет почвы под ногами — это страшно, безумно страшно. Не на что опереться, чувствуешь под собой раскрывшуюся бездну, готовую поглотить тебя, и ужас неминуемой гибели, из груди вырывается страшный вопль: Господи, Господи, отчего ты меня покинул, — кажется, все кончилось. И точно, что-то кончилось, но что-то и началось. Пришли новые, непостижимые силы пришли новые откровения. Нет почвы под ногами, нельзя, как прежде, ходить по земле — значит: нужно не ходить, нужно — летать.
— эти veritates æternæ — все продолжают неумолимо твердить, что по своей природе человек должен ходить, а не летать, стремиться к земле, а не к небу. Что там, где ужас, там, где страшно, там нет и быть не может добра. И так как самое страшное — это нарушение «закона» и ослушание того самодержавного повелителя — разума, quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus и который является источником всех законов, то нужно бросить все дерзновенные попытки, смиренно покориться неизбежности, в этом смирении видеть свою добродетель и в этой добродетели находить свое "высшее благо". — покорность законам разума и рожденной разумом морали. И Бог, сам Бог требует от человека прежде всего и после всего покорности и послушания»[80].
И здесь ведь сам стержень смысловой игры Набокова с Фати – Валентиновым, с этим воплощением лужинского рока в романе, с одним из, как теперь выражаются, «креативных» сотрудников кинематографической фирмы «Веритас». Мир «больших идей», veritates aeternae требует от человека покорности, amor fati[81]. Но на вершине этого земного мира уютной посюсторонности неизменно оказываются Фати-Валентиновы.
человека.
Единство и противоположность трагических судеб Паскаля и Ницше в текстах Шестова, в подтекстах набоковских произведений всегда оттенено проблемой Христианства. Собственно эта проблема и есть краеугольная проблема, основной вопрос и предмет всех здесь нами изучаемых текстов. Общий ракурс рассмотрения всего спектра актуализируемых аллюзий. Проблема Христианства, его понимание и истолкование, исповедание лежат в основе учений, взглядов всех тех мыслителей, к которым обращается набоковский текст. И тем самым, вольно или невольно последним предметом набоковского полемического высказывания становится именно проблема Христианства. Поиск его сокровенной истины над- и вне- межконфессиональных границ и противоречий.
Ещё 17 лет назад, в первых статьях посвященных исследованию третьего набоковского романа проявляя внешние, поверхностные приметы я писал о Христианской теме в смысловом подтексте романа. И только теперь, рассматривая тексты-предтечи мы обращаемся к этой теме в её предметной полноте. На передний план в рассмотрении романного иносказания выходят сугубо христианские проблемы:
- это и освещенная в статье «Превращение Медного всадника в фигуру черного шахматного коня» тема Христа и Антихриста, взятая сквозь призму символического её наполнения образностью Медного всадника в текстах Д. Мережковского, А. Белого.
- это и выше рассмотренный отчетливо христианский контекст мистической тяжбы Паскаля и Шестова с рациональным, с идеей, с законом. Проблема, в набоковском романе переплавленная в тему борьбы Лужина с шахматным «логосом».
закона, рационального, здравого смысла и его мистическая покорность Христу.
И далее, проблематика набоковского романа взятая в контексте предшествующих ему текстов, так или иначе, будет раскрываться с религиозной и именно христианской стороны, наполняя эту тему действительной глубиной и богатством её прочтения в подтексте произведения.
Зачастую в своих полемически ответных конструкциях превращая, переплавляя, переиначивая темы предшественников, улавливая и обыгрывая странные взаимо-отражения. Формируя положительное высказывание картинками «от противного», опровержениями ложных решений. Характерный пример «тематически телескопической вложенности» и взаимо-отражений. В своем сконцентрированном на проблеме Христианства произведении «Антихрист. Проклятие христианству», написанном за год до произошедшего в начале 1889 года помутнения рассудка, Ницше касаясь столь значимой в изучаемом нами романе темы «силы и слабости» пишет о Паскале:
«Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушения. Вот пример, вызывающий глубочайшее сожаление: гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем как ею было лишь христианство»[82].
Тогда как и сам Ницше, в противоположность Паскалю сосредоточившийся на богоборчестве, проповеди здоровья и силы, парадоксальным образом приходит к не менее трагическому финалу. И образ Ницше, в свою очередь, такими особенностями его взглядов и судьбы как борьба с историческим, объективированным Христианством, «воля к власти», «вечное возвращение», трагическое безумие отчетливо просматривается за историей набоковского Лужина.
«И вот, Паскаль один из тех редких и для людей вечно непостижимых избранников, который почувствовал или которому дано было почувствовать, что «повиновение» есть начало всех земных ужасов, начало смерти. Закон пришел, чтобы умножилось преступление, как говорит ап. Павел. Закон лишь молот в руках Бога, которым Он раздробляет уверенность человека, что над живыми существами властвуют вечные, нематериальные принципы. Или еще точнее: закон пришел к человеку, когда он, забывши предупреждение Бога, соблазнился деревом познания добра и зла, сорвал и вкусил с него плоды — все эти бесчисленные pudet, ineptum, impossibile не должного, загадочного начала и неизбежного конца. Пока не было «света», не было ограниченности, все было возможно, все было "добро зело", были начала, но не было концов, и слово «неизбежность» было так же бессмысленно, как сейчас для нас слово «свобода». Свет принес с собой стыд пред райской наготой и страх перед земной смертью»[84].
«Даже товарищи Паскаля по Пор-Руаялю не хотят принимать сказание Библии о грехопадении во всей его загадочной полноте. Они считают — иногда и Паскаль так говорил, — что грех первого человека вовсе не в том, что он вкусил от дерева познания добра и зла. В этом не было бы беды, в этом было бы счастье, ибо познание есть summum bonum, выше и лучше которого нет ничего на свете. Беда произошла лишь оттого, что Богу вздумалось запретить Адаму касаться как раз этого дерева— мораль и разум — прощают все что угодно, кроме ослушания. Так что если бы Бог запретил есть сливы или груши и Адам в этом его ослушался, то последствия были бы те же — пришли бы немощи, страдания и сама смерть»[85].
«В Боге хотят видеть «безусловное» и «нематериальное» начало, которое, как и все известные нам начала, автоматически и потому беспощадно казнит всякие попытки живых существ отклониться, по свободному выбору, от установленных им законов. Так до сих пор толкуют Библию — несмотря на вдохновенные слова пророка Исаии и проникновенные послания ап. Павла. Ничего удивительного в этом нет: когда «разум», тот разум, который через сорванный Адамом плод вошел в мир, берется толковать Библию, он всегда подставит свои собственные истины на место чуждого ему откровения»[86].
Весь спектр проблем поднимаемых здесь Шестовым так или иначе обращен к тематическому узору изучаемого нами романа.
- это и тема борьбы и покорности миру объективной закономерности (раскрываемая Набоковым через шахматно-аллегорическое её остранение, отражение в безумной шахматной реальности главного героя)
- тема отчужденности, неисчерпаемости и давящей, нудящей необходимости рационального миропорядка (как в обыденной так и в шахматной реальности). Недосягаемости свободы в этом мире.
- И столь прямо выраженная Шестовым, самая сокровенная тема набоковского романа, тема «законнического», «юридического», рационального, в наибольшей степени присущего католическому, «толкование Библии».
«первородного греха». Шестов объявляя «первородным грехом» сам разум человеческий спорит с теми, кто видит грех в непослушании Божьей воле. Для Набокова же сквозным базовым источником греховности его отрицательных персонажей всегда были эгоцентричность, исповедуемый и воплощаемый утилитаризм, безлюбовность существования.
И Набоков удерживает перед глазами эту, в такой символике поданную Шестовым проблему первородного греха. В позднем предисловии к роману, в провокационно-издевательски составленном обращении к читателю «фрейдианцу», Набоков изящно разыгрывает, конечно же, совершенно втемную, этот образ-символ «запретного плода» из райского сада.
«… малолетний же фрейдианец, принимающий замочную отмычку за ключ к роману, будет, конечно, все так же отожествлять персонажей книги с моими родителями, возлюбленными, со мной самим и серийными моими отражениями, — в его, основанном на комиксах, представлении о них и обо мне. я могу еще признаться, что дал Лужину мою французскую гувернантку, мои карманные шахматы, мой кроткий нрав, и косточку от персика, который я сорвал в моем обнесенном стеной саду»[87].
Употребление этого нарочитого символа вполне оправдано и понятно в контексте антиутилитаристского прочтения романа. Знание, идеальное, логическая гармония и красота (взятые в романе в шахматном виде) представленные Шестовым в символе «запретного плода» проблематизируются в своей сложной внутренней сути. Из них выделяется, тот твердый, неупотребимый осадок, «косточка от персика[88]» - утилитарно-приземленное, греховное в райском фрукте. От всей полноты «плода познания», от его красоты, аромата и вкуса (непревзойденным гурманом коих всю свою жизнь был его автор, Набоков) Лужину достается (или точнее он сам это выбирает в своем предпочтении батальной, сражающейся стороны шахмат) лишь твердая утилитарная, на потребу своему поврежденному Эго употребляемая его часть – «косточка от персика». И не «запретный плод», ни «свет знания» открывают дорогу греху, повергают человека в рабство необходимости, а лишь дурное, эгоистически-утилитарное их употребление обиженным и обижающим, униженным и унижающим человеком.
«псевдо-реальность» «псевдо-бытия» обывателей русского Берлина, его тестя с тещей, психиатра, Валентинова и прочих фигурно условных персонажей книги. Другие, напротив, упрекают жену Лужина в покушении на полноту творческой жизни мужа, забывая, что именно «там» (см. проблему дихотомии символических «тут» и «там» у Набокова) в такого рода шахматном инобытии он и обречен, именно в трансцендентном «там», в этом для него предельно реальном и прекраснейшем из миров, мире шахмат таится жало смерти. Здесь нет грубых, поверхностных, школьных ответов. Символика романа, его сокровенная трагедия отчетливо обращена к более изощренному, сложному, богатому размышлениями контексту. Частью которого и были размышления Шестова о судьбах Паскаля и Ницше.
Для перехода к следующей теме приведем, в параллель лужинской трагедии, слова Шестова об одиночестве, отстраненности Паскаля: «От всего, что мило людям, он уходит. Люди любят прочность, он принимает неуверенность, люди любят почву — он избирает пропасть, люди больше всего ценят внутренний мир — он прославляет войну и тревогу, люди жаждут отдыха — он обещает усталость, усталость без конца, люди гонятся за ясными и отчетливыми истинами — он все карты смешивает, он все спутывает и превращает земную жизнь в страшный хаос. Чего нужно ему? Но ведь он уже сказал нам: никто не должен спать»[89]. И несмотря на то, что совсем о других вещах идет речь в биографии шестовского Паскаля в отличие от Лужина, но насколько концентрированно, и теми же словами переданы характерные особенности набоковского персонажа. «Люди любят прочность,<…> - он избирает пропасть», «люди больше всего ценят внутренний мир — он прославляет войну и тревогу», и пусть «войну» только лишь шахматную, но «тревогу» то самую настоящую, «люди жаждут отдыха — он обещает усталость, усталость без конца», «люди гонятся за ясными и отчетливыми истинами — он все карты смешивает, он все спутывает и превращает земную жизнь в страшный хаос», и пусть спутанными оказываются не карты, а фигуры на доске – историей своего безумия он разрушает уютный, обывательский мир «ясных и отчетливых истин». «Никто не должен спать». «Так учит Паскаль или, я бы лучше сказал, так передает Паскаль то, что услышал на Божьем суде»[90].
«Никто не должен спать»
«Никто не должен спать» - заглавная тема шестовского взгляда на судьбу Паскаля. И вовсе не случайно его статья называется «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)»,
«Мыслей» Паскаля: «Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Pascal. Le mystère de Jésus»[91].
Тема сновидческой природы обыденного существования и напряженно-бодрствующего состояния человека верующего, страстного, обращенного к иным мирам – одна из ведущих тем, как в статье Шестова о трагической судьбе Паскаля, так и в романе Набокова о не менее трагической судьбе Лужина. Хотя представлена она в набоковском романе довольно своеобразно.
Мы помним, насколько отчетливо Набоковым в романе выписана абсурдная с обычной точки зрения, но характерная для лужинского сознания оппозиция предельной реальности шахматного мира и сновидческой природы мира обыденного.
«"В хорошем сне мы живем". Он посмотрел вокруг себя, увидел стол и лица сидящих, отражение их в самоваре - в особой самоварной перспективе - и с большим облегчением добавил: "Значит, и это тоже сон? эти господа - сон? Ну-ну..."»(173)
«то слабее, то резче, проступали в этом сне тени его подлинной шахматной жизнишахматные мысли, шахматная бессонница, размышления над острой защитой, придуманной им против дебюта Турати. Он ясно бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого сора, понявший, что , в котором млеет и тает, как золотой дым луны, образ милой, ясноглазой барышни с голыми руками»(173-174) и т. д.
Выводя эту сновидческую, равнодушную ко всему обыденность на уровень философских обобщений, заявляя её как проблему, Шестов пишет:
«Когда Монтэнь проповедует такие идеи, как "tenez-vous dans la route commune"[92] и т. п., - это совершенно в порядке вещей. «Философия» Монтэня, как он сам откровенно признавался, есть только мягкое изголовье, которое способствует крепкому сну. Ему сам Бог велел воспеть завещанную человечеству отцом «научной» философии, Аристотелем, «середину». Но ведь Паскаль не спит и не будет спать: муки Христа не дадут ему спать до скончания мира. Разве разум может благословить или хотя бы оправдать такое безумное решение?»[93]
Паскаль как и набоковский Лужин выпадает из этого всеобщего сонного царства. «Паскаль, как шекспировский Макбет, хочет "зарезать сон", хуже — он, по-видимому, требует, чтобы все люди приняли участие в этом страшном деле…»[94]. И мы как-то ощущаем более достойным человека этот трудный и безжалостный выбор. Шахматная «реальность» Лужина оказывается более насыщенной, более ценной, чем эта иллюзорная, фальшивая, вяло-сновидческая жизнь которой живут окружающие его обыватели. Даже несмотря на то, что эти «реальности» таят в себе порой смертельные опасности. В этом противопоставлении «сна» и «реальности» представлена проблема жизни человеческого духа. Может быть духа заплутавшего, ошибившегося в выборе пути, попавшего в плен собственных наваждений, но живого. Тогда как отчужденный ритуал обыденного, механического круговорота повседневного бытия – это лишь иллюзия жизни. Сон. Как заметил оруженосец Дон Кихота: «Одним только, говорят люди, сон нехорош: есть в нем сходство со смертью, потому между спящим и мертвым разница невелика»[95].
- Первый, низший уровень, на котором нет ни творчества, ни Любви. Сонная, механическая жизнь обывателей в романе.
- Второй - эгоистическое, «во имя свое», творчество без любви. Это и бодрствующий в своем единственном, замкнутом, прекрасном, но отчужденном и порабощающем мире шахмат и лишь грезящий миром человеческим Лужин. Это такие явно изображенные творцы-утилитаристы, «монетезировавшие», сознательно разменявшие свой Дар на блага «мира сего», как Лужин старший и Валентинов.
- Третий - любовь без творчества. Ясная, бодрствующая, но трагическая в своей односторонности, без-творческой неполноте реальность жены Лужина. Хотя, заметим, в своей силе и способности любить она ближе всех прочих персонажей к автору романа.
И, наконец, альтруистическое, многогранное творчество, освященное Любовью - подлинная реальность утверждаемого автором бытия. Модус утверждаемый отрицательным образом и не нашедший явного носителя-персонажа в романе «Защита Лужина».
«Философия видит высшее благо в ничем не возмущаемом покое, т. е. в крепком сне без тревожных сновидений»[96]
«Наш разум своими собственными, почерпнутыми из себя истинами создает из нашего мира завороженное царство лжи. Мы все ходим словно зачарованные, чувствуем это, но больше всего на свете боимся пробуждения. (Вспомним цинцинатово - «наша хваленая явь, <…> полусон, дурная дремота»(299). Ср., кстати, как изящно продолжена, переписана и преображена тема сна и действительности в этом фрагменте «Пр. на К.» - С. С.) И свои усилия, направленные к тому, чтобы сохранить это сонное оцепенение, мы, ослепленные Богом или, лучше сказать, теми «истинами», которые сорвал наш праотец с запретного дерева, принимаем за наиболее естественную душевную деятельность. И тех, кто помогает нам спать, убаюкивает нас и прославляет наш сон, мы считаем своими друзьями и благодетелями, тех же, кто пытается пробудить нас, — своими злейшими врагами и преступниками. Мы не хотим думать, не хотим всматриваться в себя, чтоб не увидеть настоящей действительности. Все, потому, для человека лучше, чем одиночество. Он ищет подобных себе сновидцев, надеясь, что "общие сновидения" (Паскаль не побоялся и об "общих сновидениях" говорить!) еще больше укрепят в нем сознание реальности его иллюзий. Больше всего поэтому человек ненавидит Откровение, ибо Откровение есть пробуждение, освобождение от уз «нематериальных» истин, с которыми потомки падшего Адама так свыклись, что вне их самое бытие кажется немыслимым. Философия видит высшее благо в ничем не возмущаемом покое, т. е. в крепком сне без тревожных сновидений. Оттого она так гонит от себя все непонятное, проблематическое и таинственное, оттого она так избегает вопросов, на которые у нее нет заранее приготовленных ответов»[97].
Тогда как Набоков несколько иначе реконструирует это противоречие. Его герой в этой оппозиции обще-обывательского «сна» и вдохновенно-религиозной «реальности» (полностью исполняя паскалево-шестовское требование) оказывается подобно Паскалю всецело погружен в свою предельно интенсивную шахматную («не от мира сего») реальность. Но это не приносит ему спасения. Сама эта «реальность» таит в себе нечто существенно важное, от чего в конечном итоге, по мнению Набокова, попадают в зависимость трагические, очень похожие судьбы Паскаля, Ницше, Лужина.
«сна» (как иллюзии разума) – «бодрствованию», «реальности» (как иррациональная безосновность) Набоков несколько видоизменяет сущностную конфигурацию оппозиции. Если у Шестова убаюкивающее сновидение – это мир рациональных идей, разума, а бодрствование связано с ясным, трезвым взглядом в бездну иррационального, то в лужинской истории, vice versa, именно безумной, бодрствующей реальности главного героя свойственно предельно рациональное, в шахматном виде представленный ректификат логики. Абсолютная, объективная, отчужденная, кристаллически-совершенная и прекрасная шахматная логика. Тогда как в иррациональности лужинского сновидении общечеловеческой жизни вместе с ужасами и обидами детства сосуществуют светлые воспоминания о спасительном доме, об исчезнувшей родине, где-то рядом ощущается теплое присутствие «дымчатой невесты».
И, несмотря на это видоизменение тематической конфигурации, а во многом и благодаря ему, Набоков очень близко подходит к шестовскому неприятию «больших идей», к его борьбе с порабощающим рациональным. Но в этом порабощении виновно не само объективно-рациональное, не разум, не идеи как таковые, а человеческое отношение к ним, то, как их человек воспринимает и для чего использует.
То есть, критикуя, дополняя и углубляя шестовскую тяжбу с рациональным Набоков показывает, что объективно-отчужденно-рациональное может порабощать не только в форме успокоительно-гипнотического усыпления духа, но и в виде почти экстатического его бодрствования, что и иррациональное в различных обстоятельствах может быть как спасительным, освобождающим человеческий дух, так и разрушающим сознание, личность. Что самая ценность и опасность этих двух крайних полюсов бытия человеческого сознания лежат не в них самих, а зависят от общей интенции сознания от метафизически-религиозной иерархии ценностей человека, от жизнеорганизующей системы его верований и убеждений.
Вредно, опасно и губительно для человеческого сознания, не рациональное, как таковое, не знание, не идеи, а вера в их объективно-отчужденное могущество. Гибельно добровольное само-заключение человеческого духа в крепость-темницу объективированной рациональности, за решетку геометрически расчерченного мира, сплющивание его на двумерной, расквадраченной плоскости шахматной доски. Но еще хуже для человека, в этом его преклонении пред гипертрофированной силой тяжеловесно-материально-объективного, бывает стать сознательно и добровольно всего лишь одной из сил в этом мире борьбы всех со всеми, употребить творческий Дар – это иррациональнейшее чудо из чудес, подарок из иных измерений бытия человеческого духа, в утилитарных целях, на борьбу за самоутверждение земного, обиженного человеческого Эго, этой личинки Личности.
Тогда как рациональное, логическое, знание и идеи, будучи взятыми в иной интенции сознания, освобожденные от их материально-тяжеловесной принуждающей объективности и прагматической утилитарности, становятся полем, объектом творческой игры человеческого сознания. Не борьба ради славы и материальных ценностей, а бескорыстное творческое приближение к истине и красоте, не шахматное соперничество, а шахматная композиция. Страсть не к победе, а к совершенству.
эго-утилитарное, как существенную, изначальную червоточину, превращающую всякую божественную игру в трагедию.
Следует сказать, что Набоков, в метафизическом высказывании, стоящем за тематическими конструкциями своего третьего романа вовсе не одинок, он как бы, присоединяется к той полемике, которую по вопросу природы и роли рационального, разума вели на протяжении всей их дружбы его старшие современники Лев Шестов и Николай Бердяев. Становясь в этом споре в большей мере на сторону Бердяева, считавшего, что греховно не познание, само по себе, а волевая направленность познающего, интенция[98] его сознания. «Существует две интенции сознания - интенция к порабощающему миру объектности, к царству необходимости и к миру подлинно сущему, к царству свободы. Феноменально-природный мир носит символический характер, он полон знаков иного и есть симптом раздвоений и отчуждений в плане духа. Нет природного объективного мира как реальности в себе, есть лишь мир свободный божественный и свободный человеческий. Объектный мир есть порабощённость и падшесть»[99]. Предметна и весьма интересна его критика взглядов Шестова по этому вопросу в таких работах как «Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения», «Шестов и Киркегор», «Трагедия и обыденность», «Основная идея философии Льва Шестова» и др..
Снова, спустя 10 лет, подчеркну, предельную близость набоковской метафизики бердяевскому учению «Христианского персонализма», и чем глубже мы будем проникать в своеобразие метафизического высказывания в подтексте набоковских произведений, тем чаще за разъяснением проблем будем обращаться к философским взглядам Н. Бердяева.
Предваряя будущие выводы набоковского Цинцината о том, что «наша хваленая явь…» в книге «Potestas clavium» Л. Шестов, снова обращаясь к этой теме бодрствования и сновидческого характера обыденного бытия пишет «Все равно как спящий не тогда проснется, когда убедится, что его сонное сознание «единства» всего существующего или тождества бытия и мышления (ведь во сне – у сна есть своя логика – люди тоже стремятся к «единству» и к отождествлению мышления и бытия: это необходимо твердо помнить), а лишь тогда, когда он убедится, что он спит и что его сновидения – вовсе не вся действительность, а только малая, отграниченная от всего прочего, часть действительности или только предчувствие действительностиНо и наяву мы далеко не свободны. И до тех пор, пока человек этого непосредственно не почувствовал, пока он убежден, что явь есть полная противуположность сну, что наяву он свободен и что его свобода выражается в творческой работе той лучшей стороны его сущности, которая называется разумом, – он еще не философ. Нужно не усыплять себя «объяснениями», хотя бы и метафизическими, загадок бытия, – нужно будить и будить себя. Для того же, чтобы пробудиться, нужно мучительно почувствовать на себе оковы сна и нужно догадаться, что именно разум – который мы привыкли считать освобождающим и пробуждающим – и держит нас в состоянии сонного оцепенения»[100].
концовке набоковского романа строкам из «Исповеди» Л. Н, Толстого. Говоря о возможности иных сознаний Шестов напоминает о сознании сновидческом, в котором и ««очевидность» становится совсем другой». «Спящий человек, сравнительно с человеком бодрствующим, может считаться как бы существом из иного мира. У него есть своя действительность, так непохожая на действительность дня. Есть, наконец – и это для нас наиболее важно, – и своя логика и свои a priori у сновидцев, притом такая логика и такие a priori, которые ничего общего не имеют даже с относительными истинами, принимаемыми релативистами типа Зигварта или Милля»[101]. Все эти и дальнейшие рассуждения Шестова представляют собой как бы введением в тему шахматной реальности и сновидческой обыденности мировосприятия набоковским Лужиным. С учетом, конечно же, характерной для набоковского безумца инверсии этой темы.
«Словом, «очевидность», преодолевающая сомнения, «очевидность», желающая быть последней инстанцией и умеющая по своим желаниям властно направлять мысль грезящего человека, играет ту же роль в сновидениях, какая свойственна ей и наяву.[148]
/148. Ср. окончание «Исповеди» Толстого: «и тут, как то часто бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, естественным, понятным, несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет смысла»/.
Но вместе с тем, как несомненная «очевидность», внутренняя «логика» сна убеждает нас в реальности происходящих во сне событий в самом сне возможным оказывается и потустороннее сновидению чувство, «что все разыгрывающиеся пред нами события ложны, что они – плоды нашего воображения, что мы только спим и, чтоб высвободиться из сети лжи и безумных a priori, в которых мы запутались, нам нужно проснуться» [102].
«Т. е. – пишет Шестов, - в сонном состоянии, среди тех истин, которые могут быть истинами только для species homo dormiens, у нас вдруг появились две истины уже не специфические, а абсолютные. Если бы мы во сне рассуждали, как рассуждают Гуссерль и эллины, мы как раз должны были бы эти две истины отвергнуть, как заключающие в себе внутреннее противоречие. Раз мы утверждаем, что мы спим и что наша очевидность есть очевидность сновидцев, т. е. очевидность обманчивая, то, стало быть, и наше утверждение, что мы спим, тоже ложно. Homo dormiens, релативизируя свою сонную истину, релативизирует бытие и т. д. А меж тем наше убеждение, что мы спим и что нужно проснуться, чтоб найти истину, – эти наши релативизирующие суждения суть , мало того что истинные – единственно ведущие к тому, чтоб избавиться от бессмысленной, невыносимо оскорбительной, кошмарной лжи сновидений (курсив – Л. Шестова)»[103]. И это «сопоставление-теорема» двух «сознаний» снова обращено к одной из множественно и разнообразно воплощенной в набоковском творчестве цинцинатовой идее «Наша хваленная явь…»(299) «а вдруг проснемся мы сейчас», «Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее»[104] и т. д..
Обратим особое внимание на то, что в этом рассуждении, в качестве иллюстрации, Шестов ссылается на окончание «Исповеди» Толстого, на его рассказ о пророчески-мистическом сне.
«Исповеди» столь насыщен родственной «Защите Лужина» тематикой, образностью, что его следует рассмотреть особо. К тому же, к этим самым строкам Толстого нас приводят так же и размышления Д. Мережковского в книге «Л Толстой и Достоевский» (той самой к которой мы обращались, рассматривая тематическую трансформацию пушкинского символа Медного Всадника в набоковском романе), где он пишет о толстовском «искушении бездной». И весьма примечательно, что связанная со сновидческой темой реальности у Шестова эта цитата из «Исповеди» Толстого соединяется с темой иррациональной бездны, полета и падения у Мережковского. И вся эта перекличка образов в воспоминаниях Толстого в размышлениях Шестова и Мережковского отчетливо просматривается сквозь сновидческую тему в набоковском романе, сквозь символическую образность описания самоубийства Лужина. Снова демонстрируя культурно-тематическую характерность узловых набоковских образов, связывающих различные источники, множественная аллюзия, столь свойственная набоковскому тексту.
И подробно мы рассмотрим эту перекличку заключительных строк набоковского романа с упомянутым в различных контекстах Шестовым и Мережковским фрагментом «Исповеди» Л. Толстого позднее, в работе посвященной вышеупомянутой книге Мережковского.
Итак, подведем итог. Мы увидели, что отчетливо связанными с темами Паскаля в набоковском романе являются:
- непосредственно взятая биографическая тема вундеркиндства, Дара, обнаруженного в детские годы (в обеих случаях -12 лет), проснувшегося честолюбия провоцирующего умственное перенапряжение, психические болезни, отречение и угашение Дара.
- тема свободы и необходимости взятая опосредованно, через размышления Шестова о порабощающей силе объективно идеального, представленного в романе в виде кристаллически-прекрасной законосообразности шахматной логики и экзистенциального бунта, протеста, «защиты» от этого рабства отдельно взятого, живого человека. Проводимое от Спинозы противостояние «vera philosophia (истинной философии)» и «optima philosophia (лучшей философии)», философии эссенциальной и экзистенциальной.
«amor fati» проявляемая Шестовым и в судьбе Паскаля. Тема борьбы и покорности судьбе.
- тема бездны. Рассматриваемая как бездна иррационального, противопоставленная, разверзшаяся у края твердых оснований рационального. Как притягательная, навязчивая мания спасения из тюрьмы логически расквадраченного мира. Разрешающаяся двояко - полетом и падением. Вдохновением и безумием. Иррациональная абсурдность акта самоубийства как падение в бездну, физическое и символическое – предмет и метод отрицательного рассмотрения проблемы «бездны» в этом набоковском романе.
- тема реальности: - сновидческой и бодрствующей; объективной и субъективной, зависящей от интенции сознания, от глубины и специализации знаний о ней.
Две последние, идущие от Паскаля и Шестова темы раскрывают нам далее обширный горизонт контекстуально связанных с символикой набоковского романа рассуждений Мережковского об «иррациональной бездне», о полете и падении, или как тогда говорили, «летании вверх пятами».
© Сакун С. В., 2017 г.
[1] Набоков В. В. Рассказы. Воспоминания /сост., подгот. Текстов, предисловие А. С. Мулярчика, коммент. В. Л Шохиной./ - М.: Современник, 1991г. стр. 452-453
[2] Nabokov V. Pale Fire. Penguin Classics 2000, p. 32
/Вечность впереди
И вечность позади: над твоей головой
– англ. пер. В. Набоковой/
[3] Память об однодневном госте (лат.)
[4] Паскаль Б. Мысли. /Пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкой. – СПб.: Азбука-классик, 2004. стр. 38-39
[5] там же, стр. 39
[6] Набоков В. В. Русский период. Собрание сочинений в 5 томах. – СПб.: «Симпозиум», 2002. т. 4, стр. 389-390
– СПб.: Азбука-классик, 2004. стр. 31-32
[8] там же, стр. 162
[9] там же, стр. 9
[10] 221. Кромвель собирался стереть с лица земли всех истинных христиан; он уничтожил бы королевское семейство и привел к власти свое собственное, когда бы в его мочеточнике не оказалась крупинка песка. Несдобровать бы даже Риму, но вот появилась эта песчинка, Кромвель умер, его семейство вернулось в ничтожество, водворился мир, на троне снова король». Там же, стр. 80
«95. Дух этого верховного судии подлунной юдоли столь зависит от любого пустяка, что малейший шум помрачает его. Отнюдь не только гром пушек мешает ему здраво мыслить: довольно скрипа какой-нибудь флюгарки или блока. Не удивляйтесь, что сейчас он рассуждает не слишком разумно: рядом жужжит муха, вот он и не способен подать вам дельный совет. Хотите, чтобы ему открылась истина? Прогоните насекомое, которое держит в плену это сознание, этот могучий разум, повелевающий городами и державами. Занятное, божество, что и говорить! О, ridicolosissimo егое![13] (О, смехотворнейший из героев! (лат.))
». Там же, стр. 41-42
[11] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891
http: //az.lib.ru/f/filippowmm/text1891pascal.shtml
[12] Набоков В. В. Русский период. Собрание сочинений в 5 томах. – СПб.: «Симпозиум», 2002. т. 3, стр. 57
– М.: Худож. Лит.,1991. стр. 166
[14] Там же. стр. 18
V. Nabokov «The Real Life of Sebastian Knight»
«I have not been able to obtain a picture of the house where Sebastian was born, but I know it well, for I was born there myself, some six years later».
[15] Когда осенью 1906 года семья Владимира Дмитриевича переехала из Выры в Петербург, они поселились не в своем особняке, а сняли квартиру в доме номер 38 на Сергиевской улице, недалеко от Таврического дворца. Расстрел детей на Мариинской площади в Кровавое воскресенье произвел настолько сильное впечатление на Елену Ивановну — она даже написала рассказ об этом событии, — что она отказывалась возвращаться на Морскую, 47, до осени 1908 года. Позднее Набоков отдал дом на Сергиевской с его архитектурным декором тете героя в «Защите Лужина» — той самой, которая учит мальчика играть в шахматы. Бойд Брайан Владимир Набоков: русские годы: Биография/Пер. с англ. – М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Издательство «Симпозиум», 2001. стр. 88
[16]Набоков В. В. Рассказы. Воспоминания /сост., подгот. Текстов, предисловие А. С. Мулярчика, коммент. В. Л Шохиной./ - М.: Современник, 1991г. стр. 459-460
[17] Nabokov V. Pale Fire. Penguin Classics 2000, p. 51
If on some nameless island Captain Schmidt
And if, a little later, Captain Smith
Brings back a skin, that island is no myth.
/760 Видит нового зверя и ловит его
И если немного позднее капитан Смит
– англ. пер. В. Набоковой/
[18] Паскаль Б. Мысли. /Пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкой. – СПб.: Азбука-классик, 2004. стр. 137-138
[19] Бутру Э. Паскаль (Из наследия мировой философской мысли. Великие философы) 1901 г. стр. 57-58
[20] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891
[21] там же, стр. 7
[22] там же, стр. 7-8
[23] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891
стр. 5
[24] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891. стр. 12
http: //az.lib.ru/f/filippowmm/text1891pascal.shtml
«Но однажды – Блэзу въ это время было не более 12-ти летъ – отецъ засталъ мальчика за доказательствомъ 32-ой теоремы первой книги Эвклида, по которой сумма угловъ въ треугольнике равна двумъ прямымъ угламъ». Бутру Э. Паскаль (Из наследия мировой философской мысли. Великие философы) 1901 г. стр. 6
Иллюстрация этого сюжета взята из книги «Детство и юность великих людей. (Важнейшие эпизоды и выдающиеся приключения в их жизни)» Соч. Л. Колэ. С. -Петербург. Издание Книгопродавца В. И. Губинского. 1894 г.
[25] Начала Евклида. Книги I-VI. (Перевод с греческого и комментарии Д. Д. Мордухай-Болтовского при редакционном участии М. Я. Выгодского и И. Н. Веселовского). ОГИЗ Государственное издательство технико-теоретической литературы. Москва. Ленинград 1948 г. стр. 43-44
[26] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891. стр. 12-13
[28] там же, стр. 13
[29] там же, стр. 13
[30] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891
[31] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891
http: //az.lib.ru/f/filippowmm/text1891pascal.shtml
[32] Там же, стр. 15-16
Изд-во имени Сабашниковых, 1995 - 480 с. с илл. - (Памятники мировой литературы). стр. -
[34] Паскаль Б. Мысли. /Пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкой. – СПб.: Азбука-классик, 2004. стр. 96
[35] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891 стр. 18
[37] Рисунок, повешенный около двери в кабинете - «поезд на мосту, перекинутом через пропасть». Наиболее вероятным представляется, что тема рисунка была навеяна Лужину историей скоростного преодоления реки Медисин-Боу. На поезде, по расшатанному мосту в запомнившемся Лужину романе Жюль Верна «Вокруг света за восемьдесят дней».
«Нет никакой возможности проехать! Мост через Медисин-Боу расшатан и не выдержит тяжести поезда.
Висячий мост, о котором шла речь, был перекинут через поток, находившийся на расстоянии одной мили от того места, где остановился поезд. По словам путевого обходчика, мост грозил рухнуть, ибо некоторые из тросов, на которых он висел, порвались. Обходчик не преувеличивал, утверждая, что мост не выдержит тяжести поезда. <…> Паспарту остановился и весь обратился в слух.
— Но ведь мост угрожает рухнуть! — заметил кондуктор.
— Это ничего не значит, — ответил Форстер. — Я думаю, что, если пустить поезд на предельной скорости, есть некоторые шансы проскочить. <…> Раздался пронзительный свисток локомотива. Машинист дал задний ход, отвел поезд почти на целую милю назад, отступая, словно прыгун, желающий взять разбег побольше.
Затем раздался второй свисток, и поезд понесся вперед; он все время набирал скорость, пока она не достигла крайнего предела; был слышен только рев локомотива, поршни которого делали двадцать ходов в секунду, колесные оси дымились, несмотря на обильную смазку. Поезд несся со скоростью ста миль в час — он летел, едва касаясь рельс. Скорость как бы уничтожала тяжесть поезда.
И он пронесся через реку! Промелькнул, точно молния, не заметив моста. Состав словно перепрыгнул с одного берега на другой, и машинисту удалось остановить мчащийся паровоз только в пяти милях за станцией.
Но едва поезд пересек реку, как окончательно развалившийся мост с грохотом рухнул в быстрые воды Медисин-Боу».
Жюль Верн. Вокруг света в восемьдесят дней. Собр. соч. в 8 т. М.: Изд. «Правда». 1985 г., т. 7, стр. 160-163
«через пропасть» открывает возможность и более широких со-прочтнений и интерпретаций. Одной из которых может быть и рассматриваемая нами история чудесного спасения Паскаля на мосту.
[38] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность.
Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891 стр. 46
[39] «Ближайшим поводом ко второму “обращению” явилась смертельная опасность, которой подвергся он сам. Но выводить из этих двух случаев, что Паскаль оба раза подвергался временному умопомешательству, это значит злоупотреблять психиатрическими терминами. Не всякий экстаз и даже не всякая галлюцинация служат доказательством того полного душевного расстройства, выражающегося главным образом в ослаблении воли, которое заслуживает названия помешательства. В противном случае пришлось бы причислить к помешанным весьма и весьма многих. В XVIII веке, когда классификация душевных болезней находилась в самом первобытном состоянии, такое смешение понятий было еще простительно, но в настоящее время ни один разумный психиатр не решился бы объявить Паскаля помешанным, хотя каждый признал бы его состояние ненормальным» Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891 стр. 45
[40] Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891. стр. 46
«Сперва он переписал полстолбца из немецкой газеты, а потом сам кое-что сочинил. Вышло короткое письмецо такого содержания: "Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 ноября. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня! Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая государыня!! Сегодня придет полиция!!!" Лужин перечел это несколько раз и, вставив обратно лист, подписал довольно криво, мучительно ища букв: "Аббат Бузони"»(208).
[42] там же, стр. 47-48
[43] «Однажды ночью, мучимый жесточайшей зубной болью, Паскаль совершенно без всякого предварительного намерения стал думать о вопросах, касающихся свойств так называемой циклоиды, кривой линии, обозначающей путь, проходимый точкою катящегося по прямой линии круга, например, колеса. За одною мыслью последовала другая, образовалась целая цепь теорем. Паскаль вычислял как бы бессознательно и сам был изумлен своими открытиями. <…> математические открытия как бы против воли навязывались его уму». Филиппов М. М. Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская деятельность. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова Год: 1891. стр. 60
[44] Первая публикация — Изд-во "Современные записки", Париж, 1929 г.
"Преодоление самоочевидностей" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 8, 1921 г., № 9, 1922 г.). "Дерзновения и покорности" - в журнале "Современные записки" (№ 13, 1922 г., № 15, 1923 г.). "Сыновья и пасынки времени" - в журнале "Современные записки" (№ 25, 1925 г.). "Гефсиманская ночь" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 19, 20 1924 г.). "Неистовые речи" - в журнале «Версты» (1926 г.). "Что такое истина?" - в журнале "Современные записки" (№ 30, 1927 г.).
[45] Л. Шестов «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)» "Современные записки" 1924 г., № 19, стр. – 176-177
http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-191924-04.pdf
[47] там же. – 196-197
[48] Богохульство… иной раз приятнее звучит в ушах Господа, чем само Алилуйя, либо какая угодно божественная хвала. И чем страшнее и отвратительнее богохульство — тем приятнее Господу (лат.).
[49] Ужасные богохульства (лат.).
[50] Ликующие восхваления (лат.).
[52] Л. Шестов «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля). (Окончание)» "Современные записки" 1924 г., № 20, стр. 236 http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-201924-06.pdf
[53] там же, стр. 239
[54] там же, стр. 239
[55] Вспомним набоковские размышления в философическом докладе «Человек и вещи», написанном в новогоднюю (русскую новогоднюю, по старому стилю, с 13 на 14 января) ночь 1928 года: ««Человек – подобие Божие, вещь – подобие человеческое. Тогда получается полный круг: вещь, Бог, человек, вещь – а для ума прелестен полный круг»
[56] там же, стр. 240
[57] Набоков В. В. Стихотворения. – СПб.: Новая библиотека поэта. 2002 г. Стр. 254
[58] Я вовсе не претендую на то, что открыл наилучшую философию, но я знаю, что постигаю истинную. Если же Вы спросите: каким образом я знаю это? - то я отвечу: таким же образом, каким Вы знаете, что три угла треугольника равняются двум прямым. Ни единый человек не станет отрицать, что этого уже совершенно достаточно, - если только он находится в здравом уме (лат– Спиноза. Письмо LXXVI (в тексте ошибочно LXXIV) Альберту Бургу».
[59] «откуда я это знаю, <…> оттуда же, откуда ты знаешь» почти дословная перекличка с постановкой вопроса Петрищевым «почему мы знаем», «почему» в этом вопросе употреблено в значении «откуда».
[60] Л. Шестов Сочинения в 2-х томах. т. 1 М.: Изд. «Наука», 1993 г. POTESTAS CLAVIUM (ВЛАСТЬ КЛЮЧЕЙ) стр. 149, прим.: т. 2 стр. 440
[62] Современные Записки №25 1925 г. стр. 338 http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-251925-09.pdf
[63] Не смеяться, не плакать, не проклинать (Лат.)
[64] Дано ли что-нибудь такое, что, найдя и приобретя это, я вечно наслаждался бы постоянной и высшей радостью (лат.).
[65] Но любовь к вещи вечной и бесконечной питает дух одной только радостью, и притом не причастной никакой печати; а этого должно сильно желать и всеми силами добиваться ("Об очищении интеллекта") (лат.).
лат.).
[67] Современные Записки №30 1927 г., стр. 292 http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-301927-01.pdf
[68] Не смеяться, не плакать, не проклинать (Лат.)
[69] Разум и воля Бога бесконечно отличаются от нашей воли и нашего разума – не иначе, чем созвездие Пса отличается от пса, лающего животного (Лат.)
[70] там же, стр. 295-296
«Дерзновения и покорности» в журнале «Окно», 1923 г. № 1, стр. 167-170 http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/okno1.pdf
[72] там же, стр. 291
[73] Этот великий ум, казалось, всегда видел бездну с левой стороны и для спокойствия ставил там стул; я знаю это доподлинно. Его друзья, его исповедник и духовник напрасно говорили ему, что бояться нечего, что эта тревога всего лишь плод воображения, утомленного абстрактными метафизическими изысканиями; он во всем соглашался с ними, но, четверть часа спустя, снова открывалась перед ним пропасть, которая его ужасала (фр.).
[74] Все-таки лужинскую бездну, пропасть за окном ванной комнаты (крайне левого поля h5) Набоков поместил слева.
[75] И этот стул Паскаля, видимо так же поучаствовал в судьбе по-своему реализовавшего эту фобию, это наваждение рационального, методичного Лужина. «Он на мгновение задумался, потом взялся за спинку стула, стоявшего подле ванны, и перевел взгляд с этого крепкого, белого стула на плотный мороз стекла. Решившись наконец, он поднял стул за ножки и краем спинки, как тараном, ударил. Что-то хрустнуло, он двинул еще раз, и вдруг в морозном стекле появилась черная, звездообразная дыра. <…> Квадратная ночь, однако, была еще слишком высоко. Пригнув колено, Лужин втянул стул на комод. Стул стоял нетвердо, трудно было балансировать, все же Лужин полез. Теперь можно было свободно облокотиться о нижний край черной ночи»(249).
[77] Вечное молчание этих бесконечных пространств ужасает меня (фр.).
[78] Л. Шестов «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)» "Современные записки" 1924 г., № 19, стр. – 195-196 http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-191924-04.pdf
[79] Джемс Сёлли «Гениальность и помешательство». С-Петербург, Издание книгопродавца В. Н. Губинского. 1895 г. стр. 16
[80] Л. Шестов «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля). (Окончание)» "Современные записки" 1924 г., № 20, стр. 247-249 http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-201924-06.pdf
Л. Шестова «Афины и Иерусалим»:
«В последнем произведении Ницше, в его «Ессе homo», мы читаем (II, Warum ich so klug bin – конец): «моя формула величия человека – есть amor fati: ничего не изменять ни впереди, ни позади во веки веков. Не только выносить необходимость – еще меньше скрывать ее от себя – всякий идеализм есть ложь пред лицом необходимости, – но любить ее». Но ведь так именно учил декадент, павший человек, Сократ, это ведь и есть те плоды с дерева познания добра и зла, которым суждено было, по Гегелю, стать принципом философии для всех будущих времен. Тому же учил и Спиноза, воспринявший мудрость Сократа и видевший в добродетели блаженство. Вместо того чтобы вызвать на последний и страшный бой необходимость, Ницше, velut paralyticus, manibus et pedibus omissis (как паралитик с расслабленными руками и ногами) сдается на ее милость и вводит ее в самую сокровенную глубину души своей – обещает ей не только покорность и почет, но даже любовь, и обещает не за себя одного. Все должны покоряться, почитать и любить необходимость: иначе грозит отлучение. От чего отлучение? Amor fati есть формула величия, говорит Ницше, и кто не согласится принять все, что ему фатум навязывает, тот не может ждать похвалы, поощрения, одобрения, которое заключает в себе понятие величия. Старое «будете как Боги» вынырнуло Бог весть откуда и зачаровало Ницше, который на наших глазах делал такие героические усилия, чтобы перебраться по ту сторону добра и зла, т. е. по ту сторону всяких похвал, поощрений и одобрений! Как это случилось? Или здесь тоже невидимо присутствовал библейский змей, соблазнивший первого человека? Ведь amor fati значит в переводе на знакомый нам лютеровский язык bellua, qua non occisa, homo non potest vivere. Ницше видит не в сковавших волю человека узах, а в воле человека и в его стремлении к могуществу. радостной и любовной покорности тому, что придет извне, и притом неизвестно откуда. И это тот Ницше, который столько говорил о морали господ и так высмеивал мораль рабов. Ни пред чем, ни пред каким авторитетом не хотел он склониться, но когда он взглянул в лицо необходимости, силы ему изменили: он воздвигает ей алтари, которым мог бы позавидовать самый требовательный обитатель Олимпа. Оправдалось все, что рассказывал Лютер в своей «De servo arbitrio» и в «De votis monachorum» и что самому Ницше открылось открылось в судьбе Сократа, но что в своей судьбе ему видеть не было дано: падший человек ничего не способен сделать для своего спасения, он утратил свободу выбора, и все, что он делает, не отдаляет, а приближает его к гибели; и чем больше он «делает», тем больше предает он себя, тем глубже он падает. И еще второе, для нас не менее важное и существенное обстоятельство. Падший человек – и опять, как мы помним, Ницше это видел, когда глядел на Сократа, – вверяется знанию, в то время когда именно знание парализует его свободу и неизбежно ведет его к гибели». Л. Шестов Сочинения в 2-х томах. М.: Изд. «Наука», 1993 г. т. 1 «Афины и Иерусалим», стр. 469-470
[82] Ницше Ф. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5 / Пер. с нем. Ю. Антоновского, Я. Бермана, В. Вейнштока и др. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. Стр. 268
[83] стыдно, нелепо, невозможно
[84] Л. Шестов «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля). (Окончание)» "Современные записки" 1924 г., № 20, стр. 249 http: //www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-201924-06.pdf
[86] Там же, стр. 250
[87] Предисловие к английскому переводу романа "Защита Лужина" ("The Defense").
[88] а то, что этот «персик» здесь у Набокова отягчен эдемской символичностью можно прокомментировать примером упоминания в схожем смысле другого косточкового в рассказе «Волшебник»: «Рассудком зная, что Эвфратский абрикос вреден только в консервах».
[89] Л. Шестов «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)» "Современные записки" 1924 г., № 19, стр. 192
[91] Иисус будет в смертельным муках до конца мира: не должно спать в это время (фр.) — Паскаль, "Тайна Иисуса" (из "Мыслей").
[92] Придерживайтесь общего пути (фр.).
[93] там же, стр. 201
[94] там же, стр. 181
– М.: Правда, 1979. стр. 539
[96] Л. Шестов «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля). (Окончание)» "Современные записки" 1924 г., № 20, стр. 254
[97] там же, стр. 253-254
[98] Интенция - термин, использовавшийся в схоластической философии, обозначающий направленность сознания или мышления на какой-либо объект.
[99] Бердяев Н. А. «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» в сборнике Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика, (Мыслители ХХ века). 1995 г. стр. 194
«Наука», 1993 г. т. 1 «Potestas clavium (Власть ключей)», стр. 144-145
[101] там же, стр. 216-217
И тут же, пятью страницами ниже, Шестов в его критике «вечности» и «вневременности» идеальных сущностей прибегает к шахматному примеру, (попутно раскрывая тему идеальности шахматных фигур, так же звучащую и в набоковском романе). Жаль было бы упустить это проясняющее созвучье: «нам станет тоже очевидным, что идеальные сущности, с их надвременным и потому как бы вечным бытием, – самые преходящие, самые бренные сущности.
Вроде шахматных фигур и самой шахматной игры. И в шахматах – это вам сам Гуссерль скажет – король или королева, словом, любая фигура есть идеальная сущность, нисколько не изменяющаяся от своих реальных воплощений. Будет ли король сделан из золота, слоновой кости или из теста, будет ли он своими размерами равняться быку или воробью, иметь на своей голове корону или тиару, – его идеальная сущность, конечно, от того нисколько не изменится, как не изменилась бы она, если бы никогда ни одна шахматная фигура не воплотилась бы в реальности. То же и про другие фигуры. Соответственно этому, как бы отдельные эмпирические сознания ни воспринимали идею короля, сама идея останется равной себе, идентичной в строжайшем смысле этого слова. Можно также торжественно заявить, что и чудовища, и ангелы, и боги должны будут видеть в ней то же, что видят люди. И заключить отсюда, что она вне времени, что она вечна – ибо пусть даже весь мир прейдет, шахматные идеи останутся. Но даже Гуссерлю, при всей его смелости, не пришло в голову говорить по поводу шахматных фигур о вечных идеях, хотя о шахматах он по какому-то случаю говорит…». Там же стр. 222
[102] Там же, стр. 217
[104] Набоков В. В. Стихотворения. – СПб.: Новая библиотека поэта. 2002 г. Стр. 262