
Превращение Медного Всадника в фигуру черного шахматного коня.
(Или введение в проблему религиозно-философского высказывания в романе В. Набокова «Защита Лужина»).
В статье рассматривается смысловая эволюция пушкинского образа-символа Медного Всадника в работах Д. Мережковского, В. Брюсова, А. Белого. Определяется содержательное наполнение этого символа в русской культуре первой четверти 20-го века. Выявляется и демонстрируется тот специфический язык литературно-философских символов, с помощью которого ставились и решались религиозно-философские вопросы в среде русского символизма. Одним из которых и был образ-символ Медного Всадника.
В статье утверждается, что роман В. Набокова «Защита Лужина» взятый в органической целостности его неявного, композиционно-аллегорического узора, поверхностной фабулы и совокупности образов, является своеобразным ответом, иносказательно-неявным высказыванием, на ту проблематику, которая завязалась вокруг пушкинского образа Медного Всадника. Ответом, построенным на пародическом снижении, превращении Медного Всадника в фигуру Черного шахматного Коня.
«Его мечта… Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?
………………………….
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне.
Пушкин А. С.
«Медный всадник»
«и уже во сне покоя не было,
а простирались все те же шестьдесят четыре квадрата,
стоял Лужин, ростом с пешку,
и вглядывался в неясное расположение огромных фигур,
горбатых, головастых, венценосных»(238).
«жестокие громады, боги его бытия»(191)
Набоков В. В.
«Защита Лужина»
Выше мы рассмотрели композиционно аллегорическую конструкцию романа, основанную на «превращении» творца шахматной защиты, гроссмейстера Лужина, в жертвенного персонажа собственной защиты, в фигуру черного шахматного коня. Мы увидели, какую смысло-насыщенную оппозицию получает рассмотрение образно-аллегорической пары Белый Конь (Белый «рыцарь из рати Христовой», Пегас) и Черный фигурный шахматный Конь в самом романе и в сопряженных с ним текстах В. Набокова. Мы показали как изображение петербургского Медного Всадника, стоящего на отлогой плите скалы в логотипе издательства «Слово», было использовано Набоковым в качестве ключевой, на самом видном месте расположенной подсказки к шахматно-композиционной загадке романа. Что образ отлогой плиты-скалы был сопряжен в сознании автора с главной темой романа[1].
И теперь, под совершенно иным углом зрения можем рассмотреть эволюцию символического содержания образа Медного всадника, ту особую его тематическую наполненость в русской художественной и критико-философской литературе первых десятилетий прошлого века. Мы увидим, насколько емкой и распространенной фигурой иносказания был этот символ. Какой широкий диапазон проблем и смыслов, от социально политических, до философско-религиозных, вмещал он в себя. Мы покажем, как этот особый комплекс проблем и вопросов, сконцентрированный предшественниками и современниками Набокова в образе Медного Всадника, отобразился и нашел новое разрешение в основных темах романа «Защита Лужина». Как и почему в ходе решения В. Набоковым вполне определенного круга проблем этот гипертрофированно величественный символ Медного Всадника трансформировался в аллегорическую фигуру черного шахматного коня.
Отметим, что кажущуюся странность и фантастичность подобного сближения и сопоставления образов усугубило время. Спустя почти сто лет с момента написания романа раскрылся комбинационный и содержательный потенциал набоковских текстов, но рассеялась, ушла в пыльные книгохранилища уникальная культурная атмосфера русского зарубежья первой четверти прошлого века.
И подобно тому, как современникам В. Набокова в те годы не удалось разглядеть композиционную загадку романа, его аллегорический узор, уловить и поставить в контекст современных, широко распространенных в то время воззрений и образов иносказательное высказывание в романе, также, в настоящее время прочтение композиционного узора романа, выявленные аллегорические прообразы, стилистические фигуры, нарочитые образы, мало о чем говорят нынешнему читателю, утратившему ощущение культурного фона 20-х годов прошлого века. Применяя к В. Набокову слова Д. С. Лихачева, сказанные в отношении творчества А. Белого, подчеркнем, что ««для полноты восприятия художественной стороны» «Петербурга» (читай – «Защиты Лужина» - С. С.) необходимо … восстановить пласты того «активного культурного фонда», которым располагал Белый (читай – Набоков – С. С.) и который оказывался столь емким, что требует ныне от читателя специальной осведомленности»[2]. Символы-образы, о которых писали и посредством которых обсуждали «вечные вопросы» в начале прошлого века забылись. Иносказание, обращенное к этим образам-символам, спустя 100 лет утратило очевидность. Одним из таких символов-образов и был Медный Всадник, и как монумент, и как герой поэмы Пушкина, и как превращенный, расширенный и наполненный новыми смыслами символ в критико-философских и художественных работах мыслителей и писателей начала прошлого века.
И наиболее полно этот символ-образ был разработан в трудах основоположников символизма в России: Д. Мережковского, В. Брюсова, А. Белого. И что особенно для нас интересно, в их текстах он представлен в художественно близких набоковскому роману образах, оборотах речи, тематических рядах, композиционных конструкциях и стилистических особенностях, что указывает не только на образную, но и на тематически-смысловую преемственность.
Говоря о темах Ф. Достоевского в романе «Защита Лужина» мы приводили фрагмент набоковской лекции, посвященной этому писателю, в котором Набоков говорит: «Мне было двенадцать лет, когда сорок пять лет тому назад я впервые прочел «Преступление и наказание» и решил, что это могучая и волнующая книга. Я перечитал ее, когда мне было 19, в кошмарные годы Гражданской войны в России, и понял, что она затянута, нестерпимо сентиментальна и дурно написана. В 28 лет я вновь взялся за нее, так как писал тогда книгу, где упоминался Достоевский»[3].
Следует еще раз обратиться к этому хронологическому замечанию Набокова. Теперь обратим внимание на то, что второй раз к произведению Достоевского Набоков обратился в 18-м году.
Чем же вызвано было в те годы его особое внимание к Достоевскому, и именно к роману «Преступление и наказание»? Какие темы, проблемы волновали молодого Набокова, какого рода «вечные вопросы» будоражили его сознание? И, самое главное, в чьей интерпретации, с чьей подачи ставились они? К ответу на эти вопросы вплотную нас подводит, основанное на его переписке, биографическое описание круга интересов молодого Набокова в Ялте. «У какого-то учителя в Ялте он стал брать уроки латыни и составил для себя весьма своеобразный список книг из ялтинской библиотеки: энтомология, дуэли, путешественники-естествоиспытатели, Впрочем, он мог не только утолять любознательность, но и углубленно заниматься благодаря «императорской библиотеке в нашем ливадийском доме, в котором (стараниями маленького библиотекаря с лысиной святого) были собраны полные комплекты старых исторических и литературных журналов, а также тысячи сборников современных поэтов, таких как Брюсов и Белый. Именно в Ливадии я завершил в 1918 году освоение русской поэзии и прозы»»[4]. И снова, упомянув фигуры Ф. Ницше, В. Брюсова и А. Белого, Б. Бойд возвращается к Ф. Достоевскому: «Его суждения становились более строгими: например, перечитав «Преступление и наказание», он нашел роман «многоречивым, ужасно сентиментальным и плохо написанным».[5] Заметьте, что в этом фрагменте набоковской биографии Бойд (употребляя буквальную цитату из черновика набоковского письма) соединяет имена Достоевского, Ницше, Брюсова, Белого, вполне определенно обозначая интерес Набокова к около-ницшеанской тематике. С именем Ницше сопрягаются фигуры, как его «духовного двойника» Достоевского[6], так и наиболее открытых русских ницшеанцев этого периода – А. Белого и В. Брюсова. То есть отчетливо прослеживается интерес Набокова к «русской поэзии и прозе» сквозь призму ницшеанской проблематики. Однако проблему ницшеанской увлеченности молодого В. Набокова пока отложим, чтобы позднее вернуться к ней с новыми материалами. А сосредоточимся на образно-символическом языке обсуждения «вечных вопросов», на системе его образов и смыслов, тематических комбинаций, которые молодой В. Набоков в 20-е годы прошлого века нашел уже готовыми в современной ему литературе. И беря в рассмотрение вышеупомянутые в набоковской биографии фигуры Ф. Ницше, Ф. Достоевского, А. Белого и В. Брюсова, заметим, что в этом ряду не хватает «центрального, связующего звена», «промежуточного мостика». Здесь утаён, обойден молчанием Дмитрий Сергеевич Мережковский. Который в своих критико-философских работах начала прошлого века связал, подвел итог литературно-философской мысли века прошлого и поставил сверхзадачи веку новому, выработал символико-образную систему выразительных средств, которую приняли и в образах которой творили и В. Брюсов и А. Белый, и, как мы покажем далее соотносился с которой, отталкивался от которой в своем иносказательном подтексте и В. Набоков.
Или как пишет о Мережковском, в своей работе «Ницше в России», Э. Клюс: «он первым выразил мистические настроения 1890-х годов и создал контекст экзистенциального поиска, на который откликнутся другие религиозно настроенные символисты. В лучшем случае посредственный романист и весьма туманный мыслитель, Мережковский, еще далеко не оценен по заслугам как критик, редактор и организатор, как интеллектуал, который ставил вопросы и религиозно-эстетические задачи, предоставляя писателям более позднего времени прокладывать собственные пути к их решению. Он оказывал и непосредственно личное, и общекультурное влияние, которое приходилось преодолевать другим писателям в поисках собственной литературной индивидуальности»[7].
Именно Мережковский, в своих ранних литературно-критических произведениях, переплавил, сгустил, сконцентрировал художественные образы Пушкина, Толстого, Достоевского в философские символы, превратив их в определенные знаково-иносказательные элементы философского размышления.
И беря к рассмотрению в этой статье пока лишь один образ–символ Медного Всадника, мы попробуем проявить содержательную полноту его звучания для искушенного читателя в начале прошлого века. Прорисуем те смысловые линии и палитру оттенков, которые выразились в этом образе. Обнажим проблематику, сконцентрированную в этом символе. Продемонстрируем, как происходило сгущение определенного рода философско-религиозного иносказания в этом пушкинском образе, превращение в символ и дальнейшее широкое его распространение. Рассмотрим то, в каком виде нашел этот образ молодой Набоков в ходе своих штудий критико-литературных произведений представителей русского символизма, в изучении русской ницшеаны и сопряженных с нею тем.
Наметим те узловые точки, те сгущения смыслов в образах-символах, которые в последующем, в превращенном виде становятся выразительно знаковыми, опорными пунктами конструкции Набоковым своего ответа, своего видения сокрытых в этих образах проблем, «вечных вопросов», задач поставленных предшественниками.
И сразу подчеркну, это единое поле тем, проблем, единство и преемственность образов ни в ком случае не следует рассматривать как «влияние», подобно тому, как не может считаться «влиянием» например факт выражения собственных мыслей на том же языке, на котором выражался предшественник, и новые элементы которого он ввел в общий оборот. Нельзя считать влиянием и использование знаково-указующих образов, символов, тем и конструкций обозначающих предшествующий объект диалога и полемики.
«Пушкин», а затем в своей первой фундаментальной работе «Л. Толстой и Достоевский». В дальнейшем этот образ символ Медного Всадника, становясь нарицательным, используется и развивается Брюсовым, и Белым. И я утверждаю, что своеобразным откликом Набокова на проблематику заложенную современниками в этом символе, наряду с несколькими стихотворениями стал и третий его роман - «Защита Лужина».
Рассмотрим в сравнительном ключе развитие и осмысление этого пушкинского образа в критических и художественных произведениях того времени.
Так в контексте вышерассмотренной творческой игры Л. Кэрролла и В. Набокова со своими «двойниками-персонажами» характерна исходная мысль Мережковского, обращающегося к рассмотрению повести А. Пушкина «Медный всадник», о том, что Петр I был своеобразным «первообразом» поэта. Что над «сонмом пушкинских героев возвышается один — тот, кто был первообразом самого поэта, — герой русского подвига так же, как Пушкин, был героем русского созерцания.<…> Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию»[8]. Пушкинский герой, Петр I, Медный Всадник, оказывается как бы предтечей, «первообразом самого поэта». Не напоминает ли эта конструкция взаимо-изобретений Кэрролла – Алисы – Белого шахматного коня, или сочиненного Набоковым гроссмейстера Лужина который, в свою очередь, «придумал» своего шахматного двойника.
И далее Д. Мережковский развивает, ставшую впоследствии центральной в его ранних критико-философских текстах проблему столкновения силы, величия, подвига с обыденным, малым, человеческим. Эта проблема, поступенно разворачиваемая Мережковским через противопоставление таких образов как Петр I (Медный Всадник) и Евгений в «Медном всаднике» А. Пушкина. Наполеон и плеяда русских героев (от Кутузова до Платона Коротаева) в романе Л. Толстого «Война и мир», Раскольникова и Сонечки в романе Ф. Достоевского, восходит к темам ницшеанского «сверхчеловека» или «человекобога» в противопоставлении христианскому «Богочеловеку». Мережковский ищет новый синтез, новую «религию», соединяющую в своих последних пределах «плоть» и «дух», «человекобога» и «богочеловека», «антихриста» и «Христа». Рассмотрим эту «эволюцию» подробнее, обращая особенное внимание на те художественные образы, стилистические обороты, приемы и композиционно-тематические конструкции, в которых она осуществляется Мережковским, сравнивая попутно и наблюдая их отголоски и полемические превращения в набоковском романе.
А начинается эта сверх-тема для Мережковского с пушкинского «Медного всадника». Снова подчеркнем изощренно сплетенную проблему автора и персонажа в критической интерпретации Мережковского. Он пишет: «обоготворение силы героя, воплотилось в «Медном Всаднике». Это — последнее из великих произведений Пушкина: только по этому обломку недовершенного мира можно судить, куда он шел, что погибло с ним. «Петр не успел довершить многое, начатое им, — говорит поэт, — он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности, еще только в пол-ножны вложив победительный свой меч». Эти слова могут относиться и к самому Пушкину»[9]. Заметьте - «обоготворение силы» и уподобление «автора», «персонажу».
Наблюдая далее за пушкинским разрешением проблемы «силы», «величия» Д. Мережковский продолжает: «Но, с другой стороны, безграничная сила, которая так легко, как бы играя, переступает пределы возможного, исторического, народного, даже человеческого, не кажется Пушкину одним из несовершенств героя. Искупаются ли радостью великого единого страдания бесчисленных малых? — Пушкин понимает, что это вопрос высшей мудрости. «Я роюсь в архивах, — говорит Пушкин, — там ужасные вещи, действительно много было пролито крови, но уж варварам проливать ее, и история всего человечества залита кровью, начиная от Каина и до наших дней. Это, может быть, неутешительно, но не для меня, так как я имею в виду будущность… Петр был революционер-гигант, но это гений, каких нет». В одном наброске политической статьи 1831 года мы находим следующие слова: «Pierre I est tout a la fois Robespierre et Napoleon (la revolution incarnee) — Петр есть в одно и то же время Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)»[10]
Здесь Мережковский акцентирует внимание на противоречии ставшем впоследствии первоосновой лужинской трагедии, сниженной и перенесенной в рафинированное пространство шахматного мира. «Безграничная сила» - эта упоительная игра и страсть неизбежно оказывается насилием. «Но уж рок велит» проливать кровь «начиная от Каина и до наших дней». Мережковский подчеркивает эту пушкинскую точку зрения, что, несмотря на кровавость правления Петра I – «это гений, каких нет» и закрепляет её формулой: ««Pierre I est tout a la fois Robespierre et Napoleon (la revolution incarnee) — Петр есть в одно и то же время Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)». Именно эта точка зрения станет отправной в последующих размышлениях Мережковского об отражении этого противоречии в романах Л. Толстого «Война и мир» и особенно, в выше рассмотренном нами в контексте набоковского романа, «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского. Гений и вседозволенность. Сила и насилие. А вместе с тем она послужит Мережковскому поводом/переходом для продолжения рассмотрения этой темы Петра – Медного Всадника в проблеме «Наполеона».
Вот как в контексте пушкинского «Медного всадника» Мережковский раскрывает эту тему, обнажает противопоставления: «С одной стороны, малое счастье малого, неведомого коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, простая любовь простого сердца, с другой — сверхчеловеческое видение героя. Воля героя и восстание первобытной стихии в природе — наводнение, бушующее у подножия Медного Всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом — вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обреченных на погибель этой волей, — вот смысл поэмы»[11]. Тема культа силы в изучаемом нами романе также продолжается в теме восстания, «защиты» героя, которому противостоят «жестокие громады, боги его бытия»(191).
И далее Мережковский употребляет пушкинскую цитату, еще более вводящую нас в образно-тематический круг набоковского романа. Сводя воедино с темой силы тему сновидческой природы реальности, тему рока о которых применительно к «Защите Лужина» уже много было говорено ранее. «Сон», «рок», «гигант на бронзовом коне / в неколебимой вышине». А нас тут больше всего интересуют именно такие, комплесно-целостные, многогранные но единые образы-совпадения, своеобразные тематические узлы-предтечи, уже готовые выразительные конструкции, «сырые кирпичи», строительный материал будущего набоковского романа.
«Его мечта… Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
Насмешка рока над землей?
………………………….
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне.
Какое дело гиганту до гибели неведомых? Какое дело чудотворному строителю до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша — любовь смиренного коломенского чиновника? Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой над морем город основался»[12]
Иронически перефразируя на лужинский манер эти строки, спросим «Какое дело шахматному гроссмейстеру до гибели фигур на поле? Какое дело изобретателю гамбитов, дебютов, защит и окончаний до их «судьбы», «не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой…». Какое дело?! Никакого! Но лишь до того момента, когда Наполеон становится бессильным изгнанником, а все его завоевания – обращаются в мираж, когда гроссмейстер сам превращается вдруг в загнанную, обреченную фигурку на шахматной доске. Впрочем, не следует думать, что исходный порок и вина здесь состоит в безжалостности гроссмейстера к фигурам, или вождя к подданным[13]. В. Набоков смотрит глубже. Хотя в случае с «политическими гроссмейстерами» и этот грех в верхнем слое моральных закономерностей играет пагубную для них роль.
А Мережковский, тем временем, снова цитируя Пушкинские стихи, продолжает нагнетать величие и грандиозность не только всадника (снова – «властелин судьбы»), но уже и его коня.
«Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?»[14]
Раскрывая пушкинскую аллегорию всадника – Петра I, и коня – России. Вводя в образно-символическую конструкцию противопоставление, также нашедшее отражение в изучаемом нами романе. «Высота» и «бездна». Всадник, в итоговом положении – «на высоте» «над самой бездной». Не хватает только «окна», но позже будет и «окно».
И далее Мережковский, проявляя пушкинское развитие этой темы столкновения «всесильного» с «ничтожным», обогащает этот образ темой богоборческого, безумного (NB!) бунта малых, восставшей ««дрожащей твари» вышедшей из праха».
«Но если в слабом сердце ничтожнейшего из ничтожных, «дрожащей твари», вышедшей из праха, — в простой любви его откроется бездна не меньшая той, из которой родилась воля героя? Что, если червь земли возмутится против своего Бога? Неужели жалкие угрозы безумца достигнут до медного сердца гиганта и заставят его содрогнуться? Так стоят они вечно друг против друга — малый и великий. Кто сильнее, кто победит? Нигде в русской литературе два мировых начала не сходились в таком страшном столкновении.
Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом[15],
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь; он мрачно стал
Пред горделивым истуканом —
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав:
«Ужо тебе!»… И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось…»[16]
И восстание на «бога» своего мира, и помрачение сознания, и фигурная монументальность, неподвижность, отчуждение и величие Медного Всадника, все эти темы и детали образа снова обращены к сокровенным чертам изучаемого нами романа. Сравните: «Кругом подножия кумира <…> На лик », «пред горделивым истуканом» - «жестокие громады, боги его бытия»(191) «неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных»(238). И разрешающие это богоборческое восстание «малых» – безумие и страх, преследующий его, воплотившийся в Медного Всадника ужас, и безысходное бегство, «И, зубы стиснув, пальцы сжав,/ <…> «Добро, строитель чудотворный!» /Шепнул он, злобно задрожав: /«Ужо тебе!»… И вдруг стремглав /Бежать пустился. Показалось …».
«Смиренный сам ужаснулся своего дерзновения, той глубины возмущения, которая открылась в его сердце. Но вызов брошен, Суд малого над великим произнесен: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..» — это значит: мы, слабые, малые, равные, идем на тебя, Великий, мы еще будем бороться с тобой, и как знать — кто победит?» И далее Мережковский пишет: «Вызов брошен, и спокойствие «горделивого истукана» нарушено, ибо он в самом деле еще не знает, кто победит»[17]. Однако он упускает из виду маленький нюанс, который подчеркнуто акцентирует Набоков – все это «восстание» и «преследование» происходит лишь в поврежденном сознании героя. Нарушенное «спокойствие «горделивого истукана» - только галлюцинация. Подобная шахматной иллюзорности лужинского мира. И именно в этой галлюцинации «Медный Всадник преследует безумца:
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой,
грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне.
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал[18].
Снова отметим дополнительную перекличку деталей в этой картине с нюансами набоковского романа. Медный Всадник в видении «безумца» «озарен луною бледной». О символическом значении луны, этого «солнца бессонных», лунного света в романе «Защита Лужина» мы уже говорили.
И далее декларируя всемирное значение этого пушкинского образа-символа, определяя его центральное положение, как в системе координат своего собственного учения и мировоззрения, так и в духовном развитии «всей русской литературы после Пушкина», Д. Мережковский пишет: «Но вещий бред безумца, слабый шепот его возмущенной совести уже не умолкнет, не будет заглушен «подобным грому грохотаньем», тяжелым топотом Медного Всадника. Вся русская литература восстанием на того гиганта, который «над бездной Россию вздернул на дыбы». Все великие русские писатели, не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров — по наружности западники, по существу такие же враги культуры, — будут звать Россию прочь от единственного русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно-одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, — будут звать назад — к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному «неделанию» Ясной Поляны, — и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «добро строитель чудотворный! Ужо тебе!»»[19]
Заметьте - «Вся русская литература после Пушкина», «Все великие русские писатели».
Этот образ становится альфой и омегой, отправной точкой и высшим, итоговым, критическим пунктом, переломным моментом в концепции Д. Мережковского.
С неё он начинает рассмотрение путей русской литературы от Пушкина к Толстому и Достоевскому. И через темы Достоевского вводя затем рассмотрение этого символ-образа в контекст ницшеанских богоборческих идей, обращается к темам сугубо религиозным.
Проблема Петра – Медного Всадника «на следующей ступени» построения символа переходит у Мережковского в проблему Наполеона, которую он рассматривает в контексте двух, центральных произведений русской литературы, «Войны и мир» Л. Толстого и «Преступления и наказания» Ф. Достоевского. Отметим, что Мережковский продолжает развивать тему Медного Всадника в своей («дебютной») первой значительной критико-философской работе «Л. Толстой и Достоевский», вышедшей в 1900–м году. Эта высоко оцененная современниками книга не могла остаться незамеченной молодым Набоковым. И по смысловой насыщенности, по тематической определенности, по образно-символической выразительности, особенным критико-аналитическим приемам, заслуживает быть одной из обязательных к со-прочтению с изучаемым нами набоковским романом.
Созвучия и переклички этих двух произведений столь множественны и разнообразны, что им должно быть уделено особое внимание. Пока же мы рассмотрим лишь один, центральный, «стержневой» в философии Мережковского образ-символ в его эволюции, обогащении и превращениях – образ Медного Всадника.
И переводя тему «Медного всадника» в тему «Наполеона», Мережковский, определяя роль наполеоновского нашествия в судьбе России, пишет: «Удар Петра разбудил лишь тело, удар Наполеона – душу России. И ответом на страшный удар было не только великое всемирно-историческое действие Двенадцатого года, – современная русская литература от Пушкина до Л. Толстого. Недаром же, именно в это время, то есть после Двенадцатого года, зародилась муза Пушкина. И молодого Пушкина и Лермонтова – первые, еще неясные, отроческие думы русской поэзии привлекал образ Наполеона.
Этот же самый образ сделался средоточием и тех двух великих произведений, которые окончательно дали русской литературе всемирное значение: Наполеон, как исторический, реальный образ в «Войне и мире» Л. Толстого, как воплощение нравственной идеи, как предмет психологического исследования об отношении героя к добру и злу – в «Преступлении и наказании» Достоевского.
На вопрос, поставленный русскому народу западноевропейскою культурою в лице Наполеона, Россия ответила дважды: войной Двенадцатого года – во всемирно-историческом действии – и «Войной и миром», «Преступлением и наказанием» – во всемирно-историческом созерцании» [20].
С особой интенсивностью проблема «наполеонов», «великих личностей» выразилась в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание». И именно ей уделено основное место в рассмотрении этого романа Мережковским. Выше мы отмечали, что второе прочтение В. Набоковым этого произведения состоялось «в кошмарные годы Гражданской войны в России», тогда же он «завершил в 1918 году освоение русской поэзии и прозы». И рискну предположить, что перепрочтение Набоковым этого романа Достоевского было связано, прежде всего, с чтением книги Мережковского, в которой «Преступлению и наказанию» было уделено столь большое внимание. И тогда третье обращение к роману Достоевского уже в период работы над «Защитой Лужина» окончательно утверждает образно-тематическую взаимосвязь этих трех книг.
Примечательно в этой связи, что тема «Наполеона» находит и самостоятельное отражение в творчестве Набокова. В 1919 году, то есть именно в те годы, к которым мы и относим внимание к этим книгам, темам, проблемам, он пишет стихотворение «Наполеон в изгнании». Стихотворение, отчетливо обращенное к полемике между Толстым, Достоевским и Мережковским и восходящее к «толстовской», критикуемой Мережковским, линии снижения-развенчания «героического» образа Наполеона[21]. Противопоставляя романтическую иллюзию «божественного величия» - человеческой слабости В. Набоков пишет:
«Вот он идет; глядит на тень
И позднее вплетая темы противопоставления силы – слабости; тщеславия, призрачности, миража славы в поздний свой роман «Защита Лужина», В. Набоков отчетливо обозначает наполеоновскую ассоциацию в образе гроссмейстера Лужина. Это и подобие страсти двух «героев» - власть, слава и красота тактической комбинаторики ведения боя. Это и одинаковый узор трагической судьбы, сначала вознесшей их на вершину славы и последовавшего затем неизбежного, безжалостного падения с этой высоты. Это и портретное сходство: обрюзглый, тяжелый «полный», «мрачный» Лужин с наполеоновской «кудрей» через лоб, «в безобразной, черной, мохнатой шляпе» из вышеупомянутого стихотворения о Наполеоне, «Опять в этой черной шляпище». И уже прямое портретно-изобразительное указание: «его (Лужина – С. С.) тяжелый профиль (профиль обрюзгшего Наполеона)»(192).
Приведем здесь возможные художественно-изобразительные источники наполеоновской образности в портрете набоковского Лужина.
1)

2)

3)

1) Густав Беттингер (1872-1914). «Наполеон, созерцающий портрет Римского короля перед ссылкой на Эльбу – 1814 г.». (Фрагмент).
2) Поль Деларош «Наполеон в Фонтенбло». (1845)
3) Верещагин В. В. «На этапе. Дурные вести из Франции».(1887—1895) Из серии «Наполеон I в России». (Фрагмент).
Так, например, мы видим, что картины Верещагина и Густава Беттингера предельно близко иллюстрируют сцену после вечеринки в конце романа: «Гости ушли. Лужин сидел боком к столу, на котором замерли в разных позах, как персонажи в заключительной сцене "Ревизора", остатки угощения, пустые и недопитые стаканы. Одна его рука была тяжело растопырена на скатерти...»(236).
Отчетливое видение наполеоновской образности набоковского персонажа важно для читателя и в связи с распространившимся в последнее время с легкой руки голландского режиссера Марлен Горрис, снявшей «по мотивам романа» фильм «The Luzhin Defence», совершенно невозможного видения набоковского Лужина сквозь актерский образ Джона Туртурро. Дошло до того, что его портреты уже украшают обложки набоковских книг, а сами книги оформляются как рекламное приложение к фильму. Например:
1) 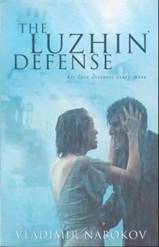 2)
2) 
1) Nabokov Vladimir. The Luzhin Defense. Published by Penguin Books Ltd (2000)
2) Набоков Владимир. Защита Лужина. Изд. Центрполиграф (Россия). 2003 г.
Возвращаясь к наполеоновской теме в романе, отметим, что тематическая параллельность образов Лужина и Наполеона выстраивается В. Набоковым именно в контексте прочтения наполеоновского образа Мережковским.
Подчеркнуто подобно наполеоновскому выписан у Набокова ментально-интеллектуальный портрет Лужина. Мы уже обращали внимание на его рационально-математический тип шахматного мышления отраженный в эпитетах: «»(174), «поразительная ясность мысли, беспощадная логика»(174). А вот как характеризует Наполеона Мережковский: «Ум Наполеона - совершенно точный, ясный, по преимуществу - математический, "евклидовский" (недаром он сам себя сравнивает с Архимедом), тот чисто арийский ум, которому последние четыре века европейской культуры обязаны своею славою - небывалым в истории человечества развитием опытных знаний. Этот самоучка, в сущности, почти "невежественный, потому что он очень мало читал и почти всегда с поспешностью" ("au fond il est ignorant, n'ayant que très peu lu, et toujours avec précipitation" - m-me de Rèmusat)»[23].
Равно как отразилось в образе Лужина и это, отмеченное Мережковским, наполеоновское сочетание особенной гениальности с «невежественностью».
«И странная вещь: несмотря на то, что Лужин прочел в жизни еще меньше книг, чем она, гимназии не кончил, ничем другим не интересовался, кроме шахмат, - она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой. Были заглавия книг и имена героев, которые почему-то были Лужину по-домашнему знакомы, хотя самих книг он никогда не читал. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, - но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не мог. Несмотря на невежественность, несмотря на скудость слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им»(195).
Но самая главная наполеоновская черта в характере Лужина – это тотальный эгоизм, дополненный и связанный с его утилитарным предпочтением батальной, сражающейся стороны шахмат. Применяя к Лужину характеристику, данную М. Де Сталь Наполеону, отметим, что «он смотрит на человеческое существо, как на обстоятельство, или на вещь, но не как на себе подобного. У него нет ни любви, ни ненависти к людям; он один - все для себя - il nya due lui pour lui - остальные существа лишь цифры»[24].
Или, как пишет Мережковский: «В эгоизме Наполеона "эгоизмом", прежде всего поражает изумительная откровенность, бесстыдная, или только нестыдящаяся нагота.
Непроизвольно (в этом именно и заключается та непроизвольность в существе Наполеона, которой в нем искала и не нашла m-me de Staël) он смотрит на себя, по выражению Меттерниха, "как на существо единственное в мире, созданное, чтобы властвовать"[25]. - "У меня, - признается однажды он сам Рёдереру, - нет честолюбия". И потом прибавляет с обычной ясностью самонаблюдения: "А ежели есть, то такое естественное, врожденное, связанное с моим существованием, что оно как бы кровь, которая течет в моих жилах, воздух, которым я дышу"[26].
Ведь это именно та самая лужинская разновидность честолюбия, которая - «как бы кровь, которая течет в жилах, воздух, которым» дышит герой. Честолюбие почти по-детски наивное и невинное «нестыдящаяся нагота». Не показное, да и почти не осознаваемое этим безвольным и управляемым во всех прочих областях жизни, не связанных с его основной страстью, персонажем.
Постоянно повторяемые Наполеоном заявления «"Я не похож ни на кого; я не принимаю ничьих условий". - Je suis à part de tout le monde; je n'accepte les conditions de personne[27]», «Я не такой человек, как все, и законы нравственности или общественных условий не могут для меня иметь значения". - Je ne suis pas un comme les autres, et les lois de morale ou de convenance ne peuvent être faites pour moi"[28]», карикатурно отображаются в многозначных восклицаниях лужинской тещи «Это же не человек, <...> Что это такое? Ведь это же не человек<...> Не человек, а Бог знает что»; в характеристике невесты: «человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем».
Для Наполеона, как и для Лужина «нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее, только вечное мгновение, вечное Я, Я - одно для себя, "все для себя"»[29].
И, так же как и в случае с Лужиным, хотя и несколько на иной манер, такое состояние сознания чревато безумием.
«Подобное себялюбие, - пишет Мережковский, - может быть, страшно, чудовищно и безумно, но уж, во всяком случае, не благоразумно, не серединно, не пошло - не обыкновенный человеческий эгоизм. "Он создает из идеального, из невозможного", - признается сам умеренный и позитивный Тэн. - "В замыслах его великое становится безмерным, безмерное вырождается в безумное". - "Император сошел с ума, - шепнул однажды Дёкре на ухо Мармону, - окончательно сошел с ума: он отправит нас всех к черту, и окончится все это ужасающею катастрофою"[30].
А какая концентрация тем и образов звучащих то в унисон, то красноречиво полемически-наоборотным диссонансом настоящему прочтению набоковского романа в следующем размышлении Мережковского: «Наполеон, как будто предчувствуя неизбежность "катастрофы", этот конец - сам идет к нему, торопит его.
"Желающий сберечь душу свою потеряет ее, и потерявший ее сбережет", - с этим положением нравственности, как будто диаметрально противоположной нравственности Наполеона, он в одной точке сходится: он ведь тоже не бережет, а теряет душу свою. Его себялюбие переступает за все естественные пределы, в которых возможно сохранение личности: он знает, что должен погибнуть, и все-таки стремится к этой гибели, без страха, без сожаления, без раскаяния.
"Конечно, я люблю власть - но я люблю ее, как художник, как музыкант любит свою скрипку: я люблю ее звуки, созвучия, гармонии, которые я из нее извлекаю". Какое странное признание! Вот, кажется, один из ключей к самой таинственной стороне его существа. Не только герой созерцания, как Данте и Микел-Анджело, но и художник действия, как Цезарь или Александр. Герой и художник своей собственной трагедии: сочиняет и живет ее».
Нужно ли комментировать эти столь смысло-насыщенные в контексте настоящего прочтения романа созвучия?
Здесь и лужинский «обратный мат» в судьбе Наполеона, «он знает, что должен погибнуть, и все-таки стремится к этой гибели»;
- и «неизбежность "катастрофы"». «"Ах, какая роскошь", - мысленно воскликнул Лужин, найдя ключ к задаче - очаровательно изящную жертву, "... и катастрофа не за горами", - докончила статью жена»(230).
- и своеобразное разыгрывание все той же, краеугольной в базовых интенциях Лужина библейской формулы «Желающий сберечь душу свою потеряет ее, и потерявший ее сбережет», о смыслах которой в набоковском романе уже было говорено;
- и замечательно проясняющее характер лужинского честолюбия высказывание Наполеона, отражающее к тому же одну из сторон сплетения шахматной темы с темой музыкальной в изучаемом романе. "Конечно, я люблю власть - но я люблю ее, как художник, как музыкант любит свою скрипку: я люблю ее звуки, созвучия, гармонии, которые я из нее извлекаю"
– «Герой и художник своей собственной трагедии: сочиняет и живет ее».
Лужин-шахматная фигура точно так же как и Наполеон Мережковского ощущает насильственное вмешательство в его судьбу «невидимой руки» неведомого автора Защиты Лужина. Столь же остро для него стоит ницшеанская проблема сопротивления («защиты») и покорности («amor fati») судьбе. Так же как и Наполеон, он ощущает жертвенность своего жребия. Но там где Набоков, отталкиваясь от рассматриваемой нами наполеоновской истории в изображении Мережковского, смещает акценты, помещая трагическое столкновение главного героя с роком в шахматное зазеркалье безумия, Наполеон Мережковского: «только покорен этому велению, этой "Невидимой Руке", которая ведь его самого, он знает, влечет на заклание, как жертву. Его добро, его совесть, его святость, его "категорический императив", непонятный и ужасный людям, и есть именно эта последняя покорность. <…>
Никто из людей, однако, может быть, не чувствовал, как он, все-таки "человеческой, слишком человеческой" слабости своей под тяжестью Невидимой Руки, под ужасом рока. И в этом "холодном" лице, точно изваянном из того же мрамора, как лицо "Дельфийского идола", - какая девственная тонкость и хрупкость, какая детская покорность и беспомощность! "Из ядущего вышло ядомое и из крепкого вышло сладкое"[31]. Ведь и он - жертва. И это лицо героя - вместе с тем, лицо жертвы, не только страшное, но и жалкое, может быть, самое жалкое из всех человеческих лиц»[32].
И снова столкновение и единство в одном образе абсолютной силы и предельной слабости идущих от внутреннего противоречия пушкинского Медного Всадника и через образ Наполеона вплотную приближающегося к набоковской фигуре Лужина – изобретателя Защиты Лужина и жертвенного персонажа этой «защиты» - черного шахматного коня.
А какая емкая и лаконичная формула найдена Мережковским в этом рассуждении о жребии Наполеона, - неразгаданная загадка Самсона из Книги Судей Израилевых, связывающая наполеоновскую тему с романом Набокова и органично вписывающаяся в контекст лужинской судьбы. Формула-загадка, своеобразным решением которой мог стать набоковский роман и достойная занять почетное место в качестве одного из эпиграфов к «Защите Лужина» - «Из ядущего вышло ядомое».
Следует отметить, что большая часть рассуждений Мережковского о судьбе и образе Наполеона из книги «Л. Толстой и Достоевский» (1900 г.) (откуда и были взяты вышеприведенные цитаты) практически дословно вошла в отдельное произведение – «Наполеон»(1929 г.) – главы из которого публиковались в мартовском 34-ом и майском 35-ом номерах за 1928 г. журнала «Современные записки»[33].


тематически родственные изучаемому роману тексты Мережковского появляются в нем точно накануне погружения Набокова в работу над его «Защитой Лужина». А также отметим характерное заглавие этих выдержек из будущей книги Мережковского: «Наполеон Человек». В контексте набоковской игры с фигурно-человеческими чертами его персонажей в романе, с их именами и фамилиями, такое название отрывков из книги Мережковского сообщает настоящему тематическому со-прочтению текстов дополнительные оттенки. Человеческое ли на самом деле в Наполеоне и выводке его маленьких последователей: Лужиных, Раскольниковых, Версиловых и им подобных, то самое «наполеоновское», властно-утилитарное начало?
Возвращаясь к линии развития Мережковским пушкинского символа в книге «Л. Толстой и Достоевский» мы видим далее, что с образом Медного Всадника он соединяет не только тему Наполеона, проблему Раскольникова, но и вводит его в контекст пушкинской повести «Пиковая дама». Наполеон, Раскольников, Германн у Мережковского участвуют в развитии образа-символа Медного Всадника. Для нас здесь особенно интересно то, что все эти персонажи входят в тематический подтекст набоковского романа. Все они, каждый по-своему, отображают историю роковой страсти Лужина.
Об образно-смысловых перекличках между изучаемым нами романом и темами Раскольникова и Наполеона мы уже говорили. Параллели романа «Защита Лужина» же с повестью «Пиковая дама» в целом лежат на поверхности и уже освещались в критической литературе. Это единство и переигрывание на шахматном поле романа тем страсти к игре, безумия, «жертвоприношения», игровой фортуны и рока, любовной темы. Соотнесение текстов Набоков актуализирует как на уровне тематических совпадений, так и через явные образно-смысловые аллюзии.
В качестве отступления-добавления к проявленным в критике связям «Защиты Лужина» с пушкинской «Пиковой дамой» рассмотрим еще одну, очень емкую подтекстами и аллюзиями, сцену в набоковском романе. Сцену знакомства с Лужиным княгини Умановой. Заметим, как пушкинская тема сплетается с музыкальной линией, сопровождающей в романе шахматную. Итак, из гостей в доме невесты Лужина первой его увидела «престарелая княгиня Уманова, которую называли пиковой дамой (по известной опере) … и заключила из поспешного и невразумительного разъяснения хозяйки дома, что он имеет какое-то отношение к литературе, к журналам, - сочинитель, одним словом. «А вот это вы знаете? – спросила она, учтиво завязав литературный разговор. – Из новой поэзии... немного декадентское... что-то о васильках, "все васильки, васильки"...»(171). Этот, вполне невинный образ «учтивой», престарелой княгини пронизан зловещими указаниями и предзнаменованиями для Лужина.
Во-первых, - прозвище княгини, - пиковая дама[34], открыто отсылает читателя к пушкинской истории трагической судьбы Германна, охваченного в одночасье страстью к игре, погубившего графиню и сошедшего с ума после изощренной, но иллюзорной в зазеркалье германновского безумия, мести старухи. Истории, роковым предупреждением представшей перед незрячим Лужиным в лице княгини Умановой. Отметим здесь, кстати, для целей последующего анализа пародийное сближение Германна с образом Христа в фальшивой надгробной речи молодого архиерея по усопшей Графине. В которой, «в простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел её, - сказал оратор, - бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного»»[35]. Здесь на фоне иронически изображенного А. Пушкиным фальшивого прославления в надгробной речи последних дней капризной и тяжелой старухи, Германн пародийно предстает одновременно и как олицетворение Ангела смерти, и как «жених полунощный», Христос. О подобной игре на инверсии христианской мифологии в набоковском романе мы будем говорить позже.
Во-вторых, существенно то, что акцентируется не просто пушкинская «Пиковая дама», а именно опера созданная по этому произведению П. И. Чайковским, которого В. Набоков не очень то жаловал (не столько за «популярность» его мелодий, сколько за недопустимую вольность в обращении с поэтическим первоисточником). Да и отец В. Набокова, несравненно лучше разбиравшийся в музыке, критиковал Чайковского. И его взгляд во многом был усвоен впоследствии сыном-писателем. Как вспоминает двоюродный брат В. Набокова Николай Набоков: «На воскресных утренних репетициях выяснилось, что дядя Владимир предпочитает классику, в особенности Бетховена. Чайковского же, которым я, подобно большинству русских, восхищался, он не слишком жаловал. Это служило предметом самых горячих споров между нами, споров, которые дядя Владимир обычно заключал следующим утверждением:
- Согласен с тобой, он великолепный оркестровщик. Но я не поклонник его сентиментальных мелодий. По-моему, они напоминают цыганщину. Нет, все это слишком дурной вкус»[36].
Образ П. И. Чайковского прорисовывается и сквозь вторую литературную аллюзию этого отрывка. А именно: княгиня Уманова, с последовательно зловещей учтивостью продолжает развивать перед незрячим Лужиным жестокую тему безумия. «А вот это вы знаете? <…> Из новой поэзии … немного декадентское … что-то о васильках, «все васильки, васильки»»(171). В новой поэзии 30-х годов 20-го века мы не найдем этих «васильков». Зато в «новой» для оперной княгини–«графини» поэзии (опера «Пиковая дама» была поставлена в 1890-м году) оставило заметный след известное, и особенно ценимое впоследствии поэтами декадентами[37], стихотворение А. Н. Апухтина (1840 – 1893г.) «Сумасшедший», написанное им именно в 1890-м году. И в этом столь тематически родственном роману стихотворении, васильки цветут пышным, но не вполне свойственным им цветом. И адресация этой цитаты княгини к стихотворению Апухтина была окончательно подтверждена В. Набоковым, к некоторой досаде русскоязычного читателя, в английской версии романа, где обращение княгини Умановой к Лужину звучит так: «And that thing, do you know it? <…> From Apukhtin – one of the new poets (Как мы видим, этот «новый» поэт к 1929 году уже 36 лет лежал в могиле. – С. С.) … slightly decadent … something about yellow and red cornflowers»[38]. Здесь, наряду с прямым указанием источника, «княгиня Уманова» несколько расширяет цитату указав на цвета васильков – «желтые и красные». Обратимся к стихотворению А. Н. Апухтина. Если идти от русского текста романа цитируемая княгиней строка «Все васильки, васильки» дословно повторяется в стихотворении дважды. Причем первый раз вместе с добавочно английскими деталями.
Все васильки, васильки,
Красные, желтые всюду…[39]
Рвется вся грудь от тоски…
Боже! Куда мне деваться?
Все васильки, васильки…
Как они смеют смеяться?
Это стихотворение Апухтина звучит в унисон и дополняет историю лужинской трагедии. А по созвучию тем, мотивов, психологических нюансов и художественных образов, также заслуживает быть обязательным к сопрочтению с романом. И хотя гораздо ценнее ощутить «из первых уст» всю полноту созвучия изучаемому роману этого замечательного стихотворения, вкратце обозначу точки их соприкосновения.
В стихотворении сошедший с ума человек вообразил себя королем (тайная, так и не реализованная страсть гроссмейстера Лужина). И беседуя в лечебнице с навестившей его женой и ее братом он то впадает в безумное состояние, то в его прояснившемся сознании всплывают образы прошлого, и то роковое мгновение кризиса.
Как это началось? Да, летом в сильный зной,
Мы рвали васильки, и вдруг мне показалось…
Кстати, однозначная, достаточно скрытая, но усиленно-добавочная акцентуация этого стихотворения В. Набоковым лишний раз указывает на больное, пораженное безумием состояние сознания главного героя романа. (Факт, по сей день, подвергаемый сомнению в критической литературе). И то, что Лужин, в отличие от своего более агрессивного апухтинского «собрата», не остался в лечебнице говорит лишь о его более изощренной хитрости, свойственной психическому больному, которая столь реалистично изображена в стихотворении[40] и не столь явно выписана в романе[41].
Вот как виртуозно Д. Мережковский сплетает в некий триединый образ фигуру Наполеона, пушкинского Германна и Раскольникова и тем самым, как бы подготавливает некий «шаблон», «канву», «модель» по которой в дальнейшем будет конструироваться образ набоковского персонажа. Он пишет: «Молодой человек с бледным лицом, "с прекрасными глазами", наружностью (и не только наружностью) похожий на Буонапарте до Тулона, забирается ночью в спальню к старухе, чтобы насильно выведать у нее карточную тайну. Пистолет, взятый им, чтобы испугать старуху, не заряжен. Но он все-таки чувствует себя убийцею. Тут, впрочем, дело не в старухе: "Старуха - вздор", может быть, и ошибка; он "не старуху, а принцип убил", ему нужен был только "первый шаг": "Я хотел только первый шаг сделать - поставить себя в независимое положение, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользою. Я хотел добра людям". И для добра убил. Это говорит Раскольников. Но мог бы сказать и Пушкинский Герман в "Пиковой даме"[42].
«, - пишет Мережковский, - Герман подражатель Наполеона. Сколь ни слабо, ни легко очерчен внутренний облик его, все-таки ясно, что это не простой злодей, что тут нечто более сложное, загадочное. Пушкин, впрочем, по своему обыкновению, едва касается этой загадки и тотчас проходит мимо, отделывается своей неуловимо-скользящею усмешкою. <…> Но из случайно оброненного Пушкиным анекдота неслучайно выросли "Мертвые души"; из "Пиковой дамы" неслучайно вышло "Преступление и наказание" Достоевского. И здесь, как повсюду, корни русской литературы уходят в Пушкина: точно указал он мимоходом на дверь лабиринта; Достоевский как раз вошел в этот лабиринт, так потом уже всю жизнь не мог из него выбраться; все глубже и глубже спускался он в него, исследовал, испытывал, искал и не находил выхода»[43].
И Мережковский полагает, что сам Достоевский эту «связь Раскольникова с Германом <…>, кажется, не только чувствовал, но и сознавал: «Пушкинский Герман, из "Пиковой дамы" - колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип - тип из петербургского периода!» - говорит Достоевский устами "Подростка", тоже одного из духовных близнецов Раскольникова»[44].
И что особенно примечательно, этот триединый образ Мережковский возводит прямо к символу Медного Всадника. И вот, пишет он: «из-за этих двух "колоссальных", "необычайных" лиц выступает третье, еще более колоссальное и необычайное лицо Бронзового Всадника на гранитной скале. Казавшееся чуждым, навеянным с "гнилого запада", романтическим, байроновским, наполеоновским, становится родным, народным, русским, пушкинским, петровским; идущее из глубин Европы встречается с идущим из глубин России; сон древнего степного богатыря Ильи не есть ли сон о "Чудотворце-Исполине"[45]? Да, в этом тумане финских болот, в этом граните выросшего из них города чувствуется связь всех маленьких и больших героев мятежной или только мятущейся русской личности от Онегина до Германа, от Германа до Раскольникова, до Ивана Карамазова - с тем, чьей воли роковой Над морем город основался»[46]. Тема Медного Всадника обогащается темой Наполеона, фантастическими образами Пушкина, Достоевского. Какой символ, какая «заготовка» для последующих игровых трансформаций в текстах В. Набокова! От Медного Всадника к Наполеону, Раскольникову и Германну. И от них к аллегорическому прообразу Лужина – черному шахматному коню.
«дух неволи и вместе с тем дух "роковой", противоестественной и сверхъестественной "воли"». И сам монумент, и город Петра воплощают это расщепление, внутренний раскол. Фантастическое соединение противоположного. Монумент и город – миражи. Чей-нибудь сон.
«Гранит, который разлетается в туман, - туман, который сгущается в гранит. "Дух неволи" - "дух немой и глухой", которым веет на Раскольникова, когда он смотрит на "великолепную панораму" петербургской набережной; дух неволи и вместе с тем дух "роковой", противоестественной и сверхъестественной "воли". "Дикая мечта" Раскольникова "должна еще более укрепиться" именно здесь, в этом фантастическом городе, "с самою фантастическою историею в мире", от прикосновения этой действительности, которая сама похожа на дикую мечту. "Может быть, все это чей-нибудь сон?.. Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится - и все вдруг исчезнет"»[47].
Надо сказать, что в этом размышлении Мережковский снова и снова, на разные лады, и в различных контекстах повторяет, обыгрывает отрывок из романа Достоевского «Подросток», фрагмент исповеди Аркадия Версилова, «подростка». Этот отрывок столь значим как для Мережковского, так и для нашего сопоставления произведений, что приведем его целиком.
«Гранитная глыба Медного Всадника, кажущаяся незыблемою, стоит, однако, на зыбком гнилом болоте, из которого рождаются призрачные туманы. «Утро было холодное, и на всем лежал сырой, молочный туман. Не знаю, почему, но раннее, деловое, петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре, чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение, или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из "Пиковой дамы" (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип - тип из петербургского периода!) мне кажется, должна еще больше укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху - , и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?" - Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь проснется, кому все это грезится, - и все вдруг исчезнет»»[48].
Концентрация в этом отрывке образов, символов, тем и смыслов, композиционных узоров нашедших позднее отображение и своеобразно преломившихся в набоковском романе снова столь избыточна, что раскрывает нам многие смысловые его источники и особенности генезиса в сознании автора.
Укажем на эти тематические оттенки и детали, вошедшие позднее в набоковское произведение:
- подчеркнутая оппозиция дня/утра и ночи, как противоположность фантастического ирреального – трезвому, обыденному. Находящее выражение, однако, и в таком кульбите мысли – «петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре», представляется «чуть ли не самым фантастическим в мире».
- далее, красноречиво выразительнейший в контексте безумно-игровой природы набоковского романа отсыл/пример пушкинского Германна. Туман «фантастического» петербургского утра оказывается таковым, в котором бредовые устремления Германна не развеиваются, а лишь укрепляются.
- болото, дым, туман – образы-символы разрабатываемые Набоковым в самых разных его произведениях. Болото/лужа – «Защита Лужина», сырой дым, туман - «Тяжелый дым».
- «прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне» - сколь абсурдно выразительный в контексте шахматно-конского прочтения «Защиты Лужина» образ! А снова соединенные эпитеты: «Болото», «загнанный конь».
- «а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон <> Кто-нибудь проснется, кому все это грезится, - и все вдруг исчезнет» - Предельно в унисон кэрролловской теме сновидения Черного шахматного короля в Алисином зазеркалье, о связи которой с темами набоковского романа мы говорили выше. И здесь, снова, так же как и у Л. Кэрролла эта тема совмещается Д. Мережковским (но уже совершенно иначе, на петербургский, так сказать, манер) с образом черного всадника.
Мережковский несколько раз проговаривает на разные лады эту мысль-видение, скрещивает её с пушкинским образом-аллегорией России «вздернутой на дыбы», сопрягает с поздними образами Достоевского «окончательной точки», «колебаний над бездной». Он пишет: «Достоевский, первый из русских, почувствовал и понял, что здесь-то именно, в Петербурге, петровская "вздернутая на дыбы железною уздою", как "загнанный конь", дошла до какой-то "окончательной точки", и теперь "вся колеблется над бездною"[49]»[50]. Снова и снова Мережковский повторяет этот столь выразительный в контексте нашего исследования вопрос Достоевского – «"Может быть, это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится - и все вдруг исчезнет?" Он даже наверное знает, что исчезнет» и, совершенно органично данному сопоставлению текстов, Мережковский приписывает этот «сон» Медному Всаднику: «Но если Петербург и сон, то ведь недаром же сон этот снится Медному Всаднику на гранитный скале, с подобной меди и граниту нечеловеческой волей, делающей сверх или по крайней мере противоестественное как бы естественным, несуществующее как бы существующим»[51]. Очень выразителен, в контексте изучаемого нами романа, этот «Медный Всадник» грезящий собственным королевством.
Примечательно, что этот образ «фантастического сна Медного Всадника» Д. Мережковский использует и для разделения т. н. «положительных» персонажей у Ф. Достоевского и «отрицательных». Он пишет: «Все герои Достоевского разделяются как бы на две семьи, противоположные, но имеющие много точек соприкосновения: или - как Алеша, Идиот, Зосима - это люди "грядущего града" - России слишком древней и в то же время слишком юной, несуществующей, или - как Иван Карамазов, Рогожин, Раскольников, Версилов, Ставрогин, Свидригайлов - люди "настоящего града", современной, реальной, петербургской, петровской России. Первые кажутся призрачными, но они действительны; вторые кажутся действительными, но они призрачны: они только "сны во сне", в беспощадно-реальном и фантастическом сне, который вот уже два века снится Медному Всаднику»[52]. То есть именно заблудшим, мятущимся героям Ф. Достоевского наследует набоковский Лужин этот странный «сон во сне» своей трагической судьбы.
Точно так же, реальность шахматного мира для Лужина видится нам подобной сновидению черного шахматного короля в Алисином зазеркалье. А Лужину, в свою очередь, лишь сновидением представляется человеческий мир. Сновидением шахматной фигуры Лужина-черного коня (сниженной, пародической производной от Медного Всадника). Оборачиваясь то шахматным «парадизом», то «бесовским наваждением», сквозная амбивалентность лужинского «двоемирья» подобна той о которой говорит Мережковский: «Никто больше, чем Достоевский, не считался с этою волею "чудотворца-исполина", никто глубже, чем он, не чувствовал и не сознавал всей реальной неотразимости, всей страшной действительности этого сна "петербургского периода русской истории", который все еще кажется западникам парадизом - видением райским, а славянофилам - "бесовским наваждением». Это столкновение «Запада» с «Востоком» в символе Медного Всадника позднее будет разыграно А. Белым в романе «Петербург», о чем мы ещё будем говорить подробнее.
И далее, Д. Мережковский, еще более увеличивая масштаб этого образа, развивает символ Медного Всадника в контексте идей Достоевского о «Человекобоге», и затем обращается к учению Ф. Ницше. Пушкинский «кумир» «», отображается им в идеях Ф. Ницше о «Сверхчеловеке» и возводится к образу «Антихриста». Он пишет: «Особый поразительный смысл имеет для нас, русских, явление Заратустры и потому, что мы принадлежим к народу, который дал миру, может быть, единственное, величайшее во всей новой европейской истории воплощение сверхчеловеческой воли - в Петре. Религиозная часть русского народа сложила странную и доныне мало исследованную легенду о Петре как об Антихристе, об апокалиптическом «Звере, вышедшем из бездны»»[53]. Заметим, что не просто историческая фигура Петра I, интересует Д. Мережковского в этом ницшеанском контексте, но именно его пушкинский, напряженно противоречивый, превращенный образ Медного Всадника. «И тот из русских людей, кто по духу был ближе всех к Петру, кто понял его глубже всех, русский певец Аполлона и Диониса, Пушкин»[54].
Таким образом, линия «человекобога»/«сверхчеловека»/«Антихриста» проводится Мережковским от пушкинского Петра в образе Медного Всадника к Наполеону, а затем к героям Достоевского: Раскольникову, Кириллову, Версилову, и далее к фигуре их идейного двойника - Ницше, и достигает высшей точки в образе «Антихриста»; «невидная, скрытая, как молния в тучах, но, вместе с тем, как молния, всю Россию пронизавшая мысль была: Наполеон – Антихрист; эта воля была: восстать на Антихриста, спасти себя от беспощадного вывода западноевропейской культуры – не быть раздавленным, как мертвое тело, «двунадесятью языками». Наполеон – Антихрист. И патриарх Никон, боровшийся с царем Алексеем, подобно римским папам, из-за мирской власти церкви, тоже – Антихрист. И Петр I, который, продолжая дело Московских царей и сознавая себя «наследником древних Кесарей», присвоил себе древнеримский титул «Императора», который так же, как Бонапарте, по следам Александра Великого стремился в Индию и мог бы повторить по поводу духовного регламента слова Наполеона: «Посредством светского я буду управлять духовным», – для самой чуткой, религиозной части русского народа был Антихристом».
В символе Медного Всадника проявляется образ «Антихриста». И Д. Мережковский возвращается к исходным чертам этого пушкинского образа. В нем он видит не просто черты «Антихриста», но противоречиво-напряженное, фантастическое единство двух крайних полюсов «Христа» и «Антихриста». Столкновение «Сверхчеловека»/медного кумира/«человекобога» со стихийным, c малым.
«Петербург и есть такое чудо. Здесь «чин естества» побежден «чудотворным строителем» — не человеком, а «Богом». Феофан Прокопович называл его «Христом», а раскольники называли «антихристом». Петербург — вечная дыба, на которой пытают, — Христос или антихрист? <…> Лицо Бога обращается в лицо демона. И все мы, как этот «безумец бедный», бежим и слышим за собой, —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой»[55]
Красной нитью сквозь всю книгу Мережковского проходит идея о соединении предельных крайностей «Христа» и «Антихриста» в высшей точке духовного пути человечества. О противопоставлении этих крайних «максимумов» - вялой, пошлой, серой середине. И не удивительно, что поданные в такой изощренной идейно-стилистической форме эти, отчасти эпатирующие, мысли Мережковского нашли живой отклик у современников. И изучаемый нами роман также содержит в себе полемический ответ на подобную постановку вопроса Мережковским. Где наряду с другими темами представлена реконструкция темы «Антихриста», взятая в том виде, в котором её «построил» Мережковский, в сниженном, превращенном символе «Медного Всадника», помещенного в виде фигурки шахматного коня в шахматное зазеркалье набоковского романа. И где совершенно иначе расставлены ценностные приоритеты в решении этой проблемы. «Антихрист»-Медный Всадник превратился в своего сниженного двойника, в фигурку черного коня в шахматном зазеркалье безумия заблудшего, «однажды ошибшегося» набоковского героя.
Впрочем, следует отметить, что довольно скоро Д. Мережковский и сам отошел от такой точки зрения. В предисловии к трилогии «Христос и Антихрист» в первом своем полном собрании сочинений 1914 г. он пишет: «Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что существуют две правды: христианство – правда о небе, и язычество – правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе Иисусе, Единородном Сыне Божьем, Том Самом, Которого исповедует вселенское христианство, что в Нем, Едином – не только совершенная, но и бесконечно совершаемая, бесконечно растущая истина, и не будет иной, кроме Него. Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину»[56].
И возвращаясь к эволюции символа, мы видим, что этим же образом Медного Всадника завершает Д. Мережковский также путь литературно-философских исканий предшествующих ему писателей, соединяя в нем русскую, идущую от Петра и Пушкина, литературную традицию с европейской философией, тоже подошедшей к своему пределу в учении Ницше. Завершает образом-символом «Сверхчеловека»/медного кумира на вершине «великого горного кряжа европейской философии» - перед ним «обрыв и бездна».
Здесь дальнейшие литературно-философские попытки разрешения этой проблемы по утверждению Д. Мережковского подходят к своему естественному пределу, «дальше - обрыв и бездна, падение или полет - путь сверхисторический, религия»[57] И что к этой точке «с двух разных, противоположных сторон подошли» две культуры русская в лице Ф. Достоевского с его «человекобогом» и европейская в лице Ф. Ницше с его «сверхчеловеком». «И не могли мы не узнать в нем Того, Кто всю жизнь преследовал и мучил Достоевского, не могли не узнать Человекобога в Сверхчеловеке. И чудесным, почти невероятным было для нас это совпадение самого нового, крайнего из крайних европейцев и самого русского из русских. Ни о каком влиянии или
заимствовании тут речи быть не может. С двух разных, противоположных сторон подошли они к одной и той же бездне. Сверхчеловек - это последняя точка, самая острая вершина великого горного кряжа европейской философии, с ее вековыми корнями возмутившейся, уединенной и обособленной личности. Дальше некуда идти: исторический путь пройден; дальше - обрыв и бездна, падение или полет - путь сверхисторический, религия»[58].
Или как он пишет в другом месте: «Не в отвлеченных умозрениях, а в точных достойных современной науки опытах над человеческими душами показал Достоевский, что всемирно-историческая работа, начавшаяся с Возрождения и Реформации, работа исключительно научной, критической, разлагающей мысли, если не завершилась, то уже завершается, что эта "дорога вся до конца пройдена, так что дальше идти некуда", что не только Россия, но и вся Европа "дошла до какой-то окончательной точки и колеблется над бездною". Вместе с тем показал он, с уже почти совершенною, почти нашею ясностью сознания, неизбежный поворот к работе новой мысли - созидающей, религиозной»[59].
Снова подчеркнем созвучие образов культивируемых Д. Мережковским и знаково-указательно отобразившихся в набоковском романе: «обрыв и бездна, падение или полет». Выпадает из окна сам Лужин, и это что-то значит, «летит» его черный шахматный конь в Защите Лужина, взлетает в закатное небо со скалы Пегас
И мы подходим к переломной, кульминационной точке развития этого пушкинского образа. Здесь Мережковский обозначает предел, «обрыв, пропасть» и ставит сверхзадачу дальнейших творческих усилий. Сверхзадачу себе и своим современникам. «Дальше некуда идти: исторический путь пройден; дальше - обрыв и бездна, падение или полет - путь сверхисторический, религия», "дорога вся до конца пройдена, так что дальше идти некуда", что не только Россия, но и вся Европа "дошла до какой-то окончательной точки и колеблется над бездною"». Впереди – «неизбежный поворот к работе новой мысли - созидающей, религиозной». И само разъяснение этой сверхзадачи Мережковским столь перенасыщено адресующимися к фактуре изучаемого нами романа деталями, образами, стилистическими оборотами, что уже одна эта их перекличка указывает на то, что «вызов» был принят Набоковым. Что в согласии и в полемике с учением Д. Мережковского и он, в свою очередь, принял участие в этом «новом строительстве». Откликнулся на его призыв. Приведу это разъяснение/постановку задачи Мережковским целиком, обозначив курсивом образно-идеологические фигуры речи, отобразившиеся и преобразившиеся позднее в набоковских произведениях.
«Все покровы омертвелой, богословской и метафизической догматики были сдернуты или разорваны критикой познания. Но за этими покровами оказалась не мертвая пустота, не безразличная плоскость, как предполагали легкие скептики XVIII века с их легким отрицанием, а живая притягивающая бездна, самая живая и самая притягивающая из всех когда-либо перед человеческим взором обнажавшихся бездн. Разрушение догматики не только не вредит, а более, чем что-либо, содействует возможности истинной религии. Суеверные, баснословные призраки утрачивают свою реальность; но сама реальность становится уже не баснословною, а лишь условною, не суеверною, а лишь неверною, и потому-то именно тем более, более, чем когда-либо, призрачной. Религиозные и метафизические сны теряют свою вещественность, но сама явь становится "вещественной, как сон". "сны наяву": столь фантастический и, однако, столь реальный бред Заратустры о "вечных возвращениях", бред Свидригайлова о "закоптелой бане с пауками". Разве можно, в самом деле, жить с таким бредом, с таким слепым и глухим, бессмысленным ужасом в душе, на который наука отвечает только своим циническим: "пойдите к доктору" - или же мертвым, сухим и коротким, как удар лба о стену: "не знаю"? Нет, после четырехвековой работы критической мысли мир не остался таким же страшным и загадочным, как был: он сделался еще страшнее, еще загадочнее. Несмотря на всю свою наружную плоскость и пошлость (действительно, как заметил Достоевский, "граничащую почти с фантастическим", так что древний грек мог бы сказать современному европейцу среднего уровня то, что Иван говорит лакею Смердякову: "Мне кажется, что ты сон, что ты призрак"), несмотря на эту пошлость, мир, как показал Достоевский, никогда еще не был если не таким религиозным, то таким созревшим, готовым к религии, как в наше время, и притом к религии уже окончательной, завершающей всемирно-историческое развитие, отчасти исполненной в первом - и предсказанной во втором пришествии Слова. В самом деле, современному европейскому человечеству предстоит неминуемый выбор одного из трех путей: первый - окончательное выздоровление от болезни, которую людям пришлось бы назвать "Богом", выздоровление в пошлости большей, чем современная, потому что теперь все-таки они еще страдают: ведь и такой лакей, как Смердяков, в конце концов, не выдержал, повесился; - окончательное же позитивное выздоровление от "Бога" возможно лишь в совершенной, ныне только смутно предчувствуемой пошлости социальной вавилонской башни, всечеловеческого "муравейника"[60]; второй путь - гибель от этой же болезни в окончательном упадке, вырождении, "декадентстве", в безумии , который будто бы уничтожил Богочеловека; и, наконец, третий путь - религия последнего великого соединения, великого Символа, религия Второго, уже не тайного, скрытого, как первое, а явного Пришествия в стиле и славе - религия Конца»[61].
Ставится задача «третьего пути». Теперь уже и Медный Всадник оказывается у извечного, рокового русского распутья. И эта задача-пророчество Д. Мережковского, сформулированная «по мотивам» мистически-проницательных размышлений Ф. Достоевского, как воплотилась в реальной жизни («вавилонская башня», «муравейник» социалистической России), так и нашла отклик в творчестве современников. Не является ли прямым откликом на эту задачу, тем самым «исканием третьего пути» и набоковские размышления о безумно-самоубийственном (втором по Мережковскому) пути «проповедников Человекобога» развернутые на шахматном поле третьего его романа (о чем подробно мы еще будем говорить).
Или же размышления о трагической судьбе отдельного, одинокого Человека заключенного в этой, наконец возведенной «выздоровевшим от болезни «Бога»» человечеством, исполненной всепроницающей пошлости, «вавилонской башне» социального «равенства и благоденствия», в романе «Приглашение на казнь» («первый путь», в реальной жизни уже наполовину пройденный советской Россией).
И, наконец, «третий путь». Апофатическое очищение. Проявление больного, не подлинного, того что «не есть» на этом мистическом «Третьем пути». "Некоторые мои персонажи, без сомнения, ужасно гадкие, но мне действительно все равно, они вне моего я, как мрачные монстры на фасаде собора - демоны, помещенные там, только для того, чтобы показать, что они оттуда изгнаны"[62]. Предуготовление и проявление «Второго <…> Пришествия в стиле и славе».
«соединяющими звеньями» между «задачей» Мережковского и еще одним, «набоковским» вариантом её «решения». И сообщившие этому «решению» особые дополнительные черты. Например, в вышедшей в 1920-м году в Берлинском отделении издательства «Скифы» небольшой брошюре с громким названием «О смысле жизни», её автор, критик и философ, близкий друг и соредактор А. Белого в Петроградских сборниках «Скифы», Иванов-Разумник исповедующий философию имманентного субъективизма отчетливо предстает как своеобразный образно-тематический посредник между задачами Мережковского и темами набоковской «Защиты Лужина». Мог ли молодой Набоков не заметить на книжных развалах Берлина этой брошюры с её кричащим названием? Был ли он уже знаком с ранней, более обширной и обстоятельной, изначальной версией этой книги Иванова-Разумника «О смысле жизни. Ф. Сологубъ, Л. Андреевъ, Л. Шестовъ»[63] издававшейся и переиздававшейся в начале прошлого века в Петербурге?
Так совершенно в унисон образно-тематическому подтексту Набоковского романа на последних страницах берлинского издания брошюры «О смысле жизни» мы читаем:
«Заключаемъ темъ, съ чего начали: указанiемъ на три пути, по которымъ люди идутъ за поисками смысла жизни. Мы видели только-что, что боковыя тропинки этихъ путей переплетаются, но это не мешаетъ главным дорогамъ расходиться далеко въ разныя стороны отъ одного общаго исходнаго пункта.
Все мы помнимъ сказочнаго витязя у камня, на распутiи трехъ дорог: сидитъ молодецъ на добромъ коне и читаетъ надпись на камне. А на камне томъ написано: направо поедешь – вместе съ конемъ пропадешь; налево поедешь – голову сложишь, а конь уцелеетъ; прямо поедешь – конь пропадетъ, а самъ будешь живъ. Это исторiя каждаго изъ насъ: каждый изъ насъ въ свое время приходитъ къ великому распутью трехъ дорогъ; каждый изъ насъ – на добромъ коне (имя ему – «метафизическiя иллюзiи»), и летаетъ этотъ конь выше дерева стоячаго, выше облака ходячаго … И читаемъ мы на камне при распутiи великiя и загадочныя слова: Богъ, Человечество, Человекъ …
Мистическая теорiя прогресса усиленно убеждаетъ нас повернуть направо, уверовать въ Бога, уверовать въ трансцендентный смыслъ исторiи, въ божественный смыслъ всего бытiя. Но на этой дороге, того и гляди, вместе съ конемъ пропадешь: будешь возлагать надежды на трансцендентное – и все ближе и ближе будешь подходить къ тому месту пути, где ждетъ тебя неизбежная Смерть. И что же, если тогда окажется, что (по слову Ренана) nous avons été dupés? Когда потухнетъ наше сознанiе, когда мы перейдемъ въ мракъ и небытiе, когда метафизическiя иллюзiи – состоянiя нашего сознанiя – погибнутъ вместе съ нимъ, когда великiй трансцендентный смыслъ бытiя окажется насмешливой сказкой, тогда исполнится пророчество, начертанное на камне: направо поедешь – вместе съ конемъ пропадешь …
Позитивная теорiя прогресса старается, напротивъ, убедить насъ свернуть налево, увровать въ Человечество, въ его счастье, въ его радостное и светлое будущее, построенное на нашей крови и на нашихъ страданiяхъ. Однако на этомъ пути хотя конь, быть может, и уцелеетъ (ведь метафизическiя иллюзiи этого сорта часто составляютъ своего рода групповое, соцiальное верованiе), но самъ-то уже наверное голову сложишь. Всю жизнь будешь возлагать надежды на будущее, будешь веровать въ невероятное – въ грядущiй земной рай, въ земное блаженство далекихъ поколенiй; всю жизнь будешь считать себя средствомъ для мифической цели – и съ этой верой подойдешь к тому месту пути, где стережетъ неизменная Смерть. Что, если только тогда станетъ яснымъ человеку, что всю жизнь онъ обманывалъ себя детской сказкой, что земное блаженство человечества – мифъ, что рано или поздно все человечество исчезнетъ съ лица земли, что впереди нетъ никакой объективной цели?
Остается третiй путь, и следовать по этому пути насъ убеждаетъ мiровоззренiе имманентного субъективизма, генiальнымъ выразителемъ котораго въ русской литературе былъ Герценъ. Конь пропадаетъ, а самъ будешь живъ: мы должны понять и принять, что объективной цели нетъ, что субъективной самоцелью является Человекъ, что смысломъ жизни является вся доступная человеку полнота бытiя – и тогда только «сам будешь живъ». Правда, и на этомъ пути раньше или позже встретишь неизбежную Смерть; но не победитльницей является она здесь, а побежденной. Ибо не въ будущемъ искалъ я смысла и цели своего бытiя – над чемъ всегда иронически торжествуетъ Смерть – а въ каждомъ миге своей жизни. Смерть безсилна загородить дорогу къ той трансцендентной сказке, къ которй человекъ вовсе и не стремился; смерть безсильна перед темъ, кто целью считалъ полноту бытiя каждаго мига своей жизни …
Эта полнота бытiя – главное въ мiровоззренiи человека; если вы принимаете ее, то намъ, пожалуй, даже не о чемъ спорить. Васъ утешаетъ вера въ загробное воздаянiе? – верьте! Вы услаждаетесь мыслью о грядущемъ блаженстве человечества? – услаждайтесь, утешайтесь, верьте в Бога, въ Человечество, въ прогрессъ, во что вамъ угодно, верьте, если не можете жить без веры. Верьте – но при этомъ живите полной жизнью, живите всеми струнами души; расширяйте жизнь – а потому дорожите соцiальнымъ чувствомъ; углубляйте жизнь – а потому проникайте въ глубь научнаго и художественнаго творчества. Живите «во-всю», живите всемъ: и борьбой за великiе субъективные идеалы, и шумом валовъ моря, и исканiемъ, и творчествомъ, и переливомъ голосовъ леса, и яркими радостями, и острыми печалями … Живите такой полной жизнью, чтобы, если понадобится, не жаль было завершить ее гибелью за великiе субъективные идеалы человеческой правды, человеческой справедливости, во имя великаго чувства соцiальности…»[64]
Отметим здесь и переклички с вышеупомянутым символом метафизического распутья Мережковского теперь уже в образе «сказочнаго витязя у камня, на распутiи трехъ дорог <…> на добромъ коне (имя ему – «метафизическiя иллюзiи»)». Вспомним и об этимологическом набоковском каламбуре-созвучье в предисловии к английскому переводу романа - «Лужин-illusion».
И то, что «третий путь» у Иванова-Разумника как по смыслу так и в особенной его образно-аллегорической подаче вплотную подходит к образно тематическому содержанию набоковского романа. «следовать по этому пути, - пишет Иванов-Разумник, - насъ убеждаетъ мiровоззренiе имманентного субъективизма <…> Конь пропадаетъ, а самъ будешь живъ: мы должны понять и принять, что объективной цели нетъ, что субъективной самоцелью является Человекъ, что смысломъ жизни является вся доступная человеку полнота бытiя – и тогда только «сам будешь живъ».
И особенно подчеркнем некоторые характерные детали в набоковском романе, созвучные основным выводам «имманентного субъективизма» Иванова-Разумника, его итоговой, замечательной песни-призыву к полноте жизни. Ведь одной из наиболее очевидных, отмечаемых уже при первом прочтении книги Набокова ущербностей жизни и характера Лужина является его шахматная мономания, ограниченность, скудость увлечений. Для него кроме его изощренной шахматной борьбы и её отголосков в мире не существует ничего. «Большой том Пушкина, с портретом толстогубого курчавого мальчика, не открывался никогда»(111). И невеста Лужина как бы проявляет сокровенные мысли автора книги об универсальности подлинного дара, перекликающиеся с выводами Иванова-Разумника: «В его гениальность она верила безусловно, а кроме того была убеждена, что эта гениальность не может исчерпываться только шахматной игрой, как бы чудесна она ни была, и что, когда пройдет турнирная горячка, и Лужин успокоится, отдохнет, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы, он расцветет, проснутся, проявит свой дар и в других областях жизни»(170). То есть отрицательным образом, на примере лужинской трагедии, утверждаемая Набоковым универсальность подлинного дара созвучна максиме Иванова-Разумника о том, что: «полнота бытiя – главное въ мiровоззренiи человека». Продолжает и раскрывает ее в символической конкретике набоковского шахматного романа.
Позднее своеобразным ответом на обнаженные Мережковским проблемы стал и роман А. Белого, «Петербург», явившийся еще одним «промежуточным мостиком» между текстами Мережковского и изучаемым нами произведением Набокова, о чем мы будем говорить ниже.
И не зря, довольно критически оценивая сами философско-религиозные идеи Д. Мережковского, Н. Бердяев писал о его роли и значении в развитии русской духовной мысли: «Будем справедливы к Мережковскому, будем благодарны ему. В его лице новая русская литература, русский эстетизм, русская культура перешли к религиозным темам. Он много лет будил религиозную мысль, был посредником между культурой и религией, пробуждал в культуре религиозное чувство и сознание»[65]. «Религиозные мысли Мережковского рождались в призрачных петербургских туманах. И эти петербургские мысли, как и мысли московские, не возвысились еще до значения общенационального, общенародного. Но в час, когда наступит в России жизненное религиозное возрождение, вспомнят и Мережковского, как одного из его предтеч в сфере [религиозной мысли.] литературной»[66].
Вот какой свод, комплекс проблем зачинает в этом пушкинском образе Медного Всадника Д. Мережковский, вот какую сверхзадачу ставит он перед современниками. Вот чем стал символ Медного Всадника в русской культуре первых десятилетий двадцатого века.
Такого рода гипертрофированное возвеличение Д. Мережковским этого пушкинского образа Медного Всадника, концентрация вокруг него центральных проблем русской литературы, а затем и выход за ее пределы, обращение к философии Ф. Ницше, и далее поворот к темам религиозным, повторим еще раз, - вполне могли привлечь внимание молодого В. Набокова, побудить его к размышлению на эти и сопутствующие проблемы, выразившемуся как в изучаемом нами, так и других, более поздних, его романах. Вопросы, подчеркнем, взятые в их особенной образно-символической форме, заданной Д. Мережковским.
Но этим размышлением Мережковского мы пока лишь обозначили дальний горизонт нашего исследования, тот предел, к которому устремлено иносказательное высказывание в изучаемом нами набоковском романе. Более развернутое освещение которого, потребует специального разговора и привлечение более обширного материала.
распространенность этих специфических символов, смысловых кодов в русской культуре. Проявляем признаки, приметы, образно-символической их связи с образами, сюжетными ходами, аллегорическими подтекстами романа «Защита Лужина». Определяем тот специфический язык символического иносказания, на котором в изучаемом нами романе, были выражены новые смыслы, новые идеи в философско-религиозной полемике, шедшей в русской культуре в первой половине прошлого века.
И образ-символ Медного Всадника хотя и заглавный в иерархии превращенных в набоковском романе символов, но не единственный. Рядом с ним стоит целая вереница подобных образов, также нашедших отражение в набоковском романе. О чем мы будем говорить отдельно. Да и сам этот образ Медного Всадника в текстах Д. Мережковского, а затем в работах откликнувшихся на его книги В. Брюсова, А. Белого расширяется, получает дополнительные оттенки и смыслы.
И в качестве предисловия, введения в рассмотрение отголосков, ответов, реакции на эту «сверхзадачу» сконцентрированную в символе Медного Всадника, обратимся к раннему стихотворному творчеству В. Набокова. Заметим, например, как образы, аллегории и символы излюбленной Д. Мережковским цитаты из «Подростка» Ф. Достоевского отобразились в набоковском творчестве. Вот она еще раз: «Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное… Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, — не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город поднимется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты, бронзовый Всадник на жарко дышащем, загнанном коне?.. Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, — и все вдруг исчезнет»[67].
Следует еще раз отметить, что образ этот, в первые годы 20 века, становится нарицательным, своеобразным культурным штампом в среде символистов. Так, например, в письме к Андрею Белому от 3 января 1903 года, А. Блок пишет: «Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» останется один Медный всадник на болоте, на белокаменную Москву»[68].
И как своеобразную художественную реминисценцию, отклик на этот, столь часто повторявшийся Мережковским, образ улетающего Петербурга, можно рассматривать набоковские стихотворения «Исход», написанное 11 сентября 1924 г, «Петербург», 1922 г., «Петербург», 14 января 1923 года.
Из стихотворения «Исход», 11 сентября 1924 г.
Муза, с возгласом, со вздохом шумным,
у меня забилась на руках.
В звездном небе тихом и безумном
снежный поднимающийся прах
очертанья принимал, как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,
смуглый купол плыл издалека
….
Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник, в изумленье неземном
…
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых.
Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли[69].
Здесь у Набокова, правда, мираж улетающего Петербурга представлен в возвышенно-романтическом ключе, в отличие от «гнилого, склизкого и туманного» города Достоевского, улетающего вдруг вместе с испарениями этого болотного тумана.
Однако это противопоставление «кажущейся незыблемости» монумента (и всего Петербурга) и «зыбкого болота» лежащего в его основании находит отражение в стихотворении «Петербург», написанном Набоковым в 1922 году. В нем он не только проявляет это болотно-инфернальное основание города, но и сталкивает две силы, на которых зиждется этот «град – творение Петрово». Творческой дерзости безграничных сил, олицетворенных в фигуре Медного Всадника противостоит инфернальная бездна болота. «Бури творческих времен» и «вопли нищих похорон».
Он на трясине был построен
И если для Мережковского в 1890-х годах, когда он писал свою книгу это противопоставление «гранитной незыблемости» «зыбкому гнилому болоту» было размышлением сугубо культурологическим, литературным, то в 1922 году, для Набокова, пережившего революцию, этот образ раскрывшейся «бездны», восставшего «болотного беса», становится своеобразным объяснением, интерпретацией недавних, трагических событий русской истории. Это набоковское стихотворение может служить сопутствующей, дополнительной иллюстрацией того, как идущие от Пушкина и Достоевского образы, соединившись в критической интерпретации Мережковского отобразились и преобразились в набоковском творчестве, будучи использованными для выражения им уже своих собственных, в данном случае историко-политических, размышлений.
Кстати в связи с актуализацией этой «болотной» темы во внутренней противоречивости рассматриваемого нами образа Медного Всадника, поговорим о возможных этимологических источниках происхождения фамилии главного персонажа романа. Так Б. Бойд говорит о том, что эта «фамилия происходит от Луги, в память о прошлом Набокова (Выра и Рождествено находятся на шоссе из Санкт-Петербурга в Лугу)»[71].
«Преступление и наказание», Петру Петровичу Лужину.
К ней следует добавить также и это, выше рассмотренное, весьма распространенное в то время противопоставление «зыбкости» и «незыблемости» в образе Медного Всадника и далее всего Петербурга; «всадник медный» и «болотный бес». В основе же выбора этой фамилии лежит, по видимому, еще более ранняя, но не утратившая смыслового звучания ассоциация, восходящая к образу и творчеству Л. Толстого.
Вспомним, что впервые фамилия Лужин возникает в связи с толстовскими мотивами в рассказе «Случайность». Главного героя рассказа зовут Лужин Алексей Львович. Мы уже обращали внимание на толстовские темы в этом рассказе, демонстрирующие особое внимание Набокова к творчеству этого писателя в те годы. И, повторим это еще раз, мимо него не могла пройти фундаментальная работа Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», в которой, наряду с рассматриваемыми нами размышлениями о символе Медного Всадника, Д. Мережковский подробно рассматривает трагическое противоречие между художественным творчеством писателя и его философией. И одним из выразительных образов этого внутреннего противоречия, «величайшей любви к жизни» великого писателя и его «животного», «метафизического» страха смерти, Д. Мережковский использует аллегорию т. н. «болотных окон». Он пишет: «Нет, страх смерти происходит в нем вовсе не из телесной робости: этот страх, иногда, может быть, доходящий до трусости, - более внутренний, глубокий и, в первом источнике своем, несмотря на всю животность, все-таки отвлеченный, - так сказать, метафизический. И тем больше пугают эти внезапные черные провалы, что они встречаются в душе его и в произведениях рядом с величайшею любовью к жизни: это как будто те обманчивые болотные окна, которые сверху покрыты самою зеленою, свежею травою, самыми яркими цветами и манят издали путника, но только что нога его ступает на них, он проваливается, и тина засасывает его»[72]. «Болотные окна» - луг и (лужа) болото - прекрасный и манящий, но обманчивый и гибельный образ. Вспомним, в каких эпитетах прекрасного, притягательного и ужасного выписана страсть Лужина к шахматам, и тот «животный», «метафизический» страх, связанный с этой страстью и влекущий его к гибели, к роковому «окну», кажущемуся спасительным.
В общей линии на снижение предшествующих образов-символов, их отражение в карикатурном шахматном зазеркалье лужинского безумия, таинственной бездонности инфернального петербургского болота может быть противопоставлена мелкая грязная лужа. Это всё приметы последовательного развенчания, срывание покрова таинственного величия с темной стороны жизни. На место величественной, «гранитной глыбы Медного Всадника» - миражно-эфемерная фигурка черного шахматного коня, на место «зыбкого гнилого болота» в его основании – просто грязная лужа, Лужин (сначала, Петр Петрович, Ф. Достоевского, потом Алексей Львович, а затем и Александр Иванович, В. Набокова). Эта каламбурная ассоциация Лужин – лужа – болото, особо подчеркивается автором также в сцене рокового предвидения, случившегося в первую брачную ночь, когда жена Лужина смотрит через окно в спальне на то самое место[73], куда через несколько месяцев упадет выбросившийся из окна ванной комнаты Лужин. «В темной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившемся, что-то блестело, быть может - лужа на каменной панели »(205).
Еще одним откликом-отражением этого образа «отлетевшего» города и «рвущегося в небо» всадника, стало стихотворение В. Набокова «Петербург», опубликованное 14 января 1923 года.
Я помню все: Сенат охряный, тумбы
и цепи их чугунные вокруг
седой скалы, откуда рвется в небо
.
….
Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки
в душе моей, как чудо, сохранится
твой легкий лик, твой воздух несравненный,
и каналы,
твоя зима, высокая, как сон
о стройности нездешней...
ты отлетел, а я влачу виденья
в иных краях, - на площадях зеркальных,
на палубах скользящих... Трудно мне…[74]
Заметьте здесь как эти продолжающие образность Достоевского-Мережковского эпитеты «мой призрачный», «растаял», «отлетел», «сон о стройности нездешней», так и снова повторяющийся у В. Набокова образ летящего Медного Всадника, «рвется в небо / крутой восторг зеленоватой бронзы». В примечании к этому стихотворению М. Маликова пишет, что «памятник Петру Первому («Медный Всадник») на Сенатской (Декабристов) площади (бронзовая скульптура отлита в 1768–1778 г. по проекту скульптора Э. М. Фальконе), подножием которому служит гранитная глыба, «гром-камень», найденная на берегу Финского залива, близ деревни Конная Лахта (обработана по рисунку Ю. М. Фельтена), до 1890 г. )»[75]. Однако, представляется, что дело здесь не столько в фотографической старине, сколько в литературной традиции идущей от следующей пушкинской строфы:
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
В последующем, это «над огражденною скалою» стало неотторжимой и своеобразной приметой всего образа и обросло дополнительными самостоятельными смыслами. Этот пушкинский стих, в различных контекстах, часто повторялся в произведениях Д. Мережковского, В. Брюсова.
Особенно в работе последнего, посвященной анализу пушкинского «Медного всадника» 1909 г., где с образом «огражденной скалы» Брюсов связывает центральную тему поэмы, тему политической и духовной свободы, где в качестве воображаемого ответа Пушкина Мицкевичу он пишет: «не вечен „кумир с медною главой“, как ни ужасен он в окрестной мгле, как ни вознесен он „в неколебимой вышине“. Свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и „огражденная скала“ должна будет опустеть». Подробнее о включении этого размышления в тематический узор изучаемого нами романа мы поговорим при рассмотрении темы Медного Всадника в критических и художественных работах В. Брюсова, к которому мы и переходим.
В. Брюсов, детально разбирался с пушкинским «Медным всадником». Он написал собственные «Вариации на тему «Медного всадника»»[76]. Образ Медного Всадника в ряду конных монументов северной столицы обыгрывался им в стихотворениях:
«Петербург» [77]
Все, волей мощной и единой
Предначертал Великий Петр.
Коня неистового скок,
Он повернул лицом к Европе
Русь, что смотрела на Восток;
1912
«Три кумира» [78]
Непоспешно едет конь другой;
И сурово, с мощностью наследной,
Третий конник стынет над толпой, —
Три кумира в городе туманов,
Где строенья, станом великанов,
Разместились тесно по земле.
1 декабря 1913
Отметим подобный прием сравнительного выстраивания «конского» образно вариативного ряда в написанном в 1928 году, во время работы над «Защитой Лужина», набоковском стихотворении «Стансы о коне» [79]. Где среди прочих конских образов упомянут также и «фальконетов конь живой».
В которой, полемизируя с Д. Мережковским, заострил ряд вопросов органично дополняющих наше прочтение темы превращения «Медного Всадника» в фигурку шахматного коня в романе Набокова.
Откликаясь на проблему Медного Всадника и развивая её вослед текстам Д. Мережковского, в рецензии на стихотворение Бальмонта «Придорожные травы» В. Брюсов рассматривает тему столкновения безграничной силы с предельной слабостью, ничтожеством, переводит ее в вопрос о праве «сильной личности» противостоять судьбе, самой становиться демиургом и проводником судьбы, вершителем судеб слабых и ничтожных. Он пишет: «Мысль стихотворения: у судьбы есть свои пути и, верша их, она не считается с индивидуальностями. Иначе: ради интересов целого может и должно гибнуть частное, хотя бы, само по себе, оно и не было достойно гибели— одна из основных тем поэзии, варьированная и в таких произведениях, как «Преступление и наказание» или «Медный всадник», где цели мировой судьбы берут на себя разгадать и выполнить Раскольников и Петр. У Бальмонта это символизовано в двух образах: «придорожные цветы»[82] («бедный Евгений» Пушкина, «старуха-процентщица» Достоевского) и «невидевшее (невидящее), тяжелое колесо», движущееся по «заезженному пути» (Петр в «Медном всаднике», Раскольников в «Преступлении»). У Пушкина и Достоевского внимание сосредоточено на вопросе о праве человека брать на себя роль судьбы; у Бальмонта — на несправедливости, обрекающей на гибель неповинных. Поэтому у Бальмонта подчеркнуты эта «невиновность» и эта «безжалостность», «бесчувственность» судьбы; мистичность всего совершившегося символизована образом «творца» и «бога»[83].
У В. Набокова, обратившегося к подобным вопросам в романе «Защита Лужина», эти темы сопрягаются, инвертируются и переносятся в безумный шахматный мир главного героя. Что является одновременно и вполне определенным положительным решением этих проблем, о характере и особенностях которого мы будем говорить ниже. В расщеплении судьбы и сознания Лужин сам себе противостоит в этом напряженном столкновении. Он последовательно и одновременно воплощает в романе и маленького, слабого, ничтожного, но бунтующего «раба» и всесильного «демиурга» собственной судьбы. Слабый, непонятый и обижаемый, но капризный, своевольный ребенок на первых страницах, отражается в загнанной шахматным роком одинокой, жертвенной, но бунтующей, пытающейся найти «защиту» фигуре второй половины романа. Равно как он же, сначала дерзкий вундеркинд, а затем гроссмейстер Лужин побивающий одного за другим шахматных соперников, упоенный страстью силы и победы, когда «все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал»(147). Демиург, шахматный бог потустороннего круга собственного бытия, изобретающий на вершине своего творческого пути защиту Лужина. «Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам»(174).
Примечательно, что в разработке этой темы В. Набоков не ограничивается скрытой отсылкой к вышеупомянутым произведениям Достоевского, Пушкина, о которых так много писали Мережковский, Брюсов, но и вводит дополнительные, усиливающие эту тему аллюзии и интонации, указывая, например, на тематический узор романа Ал. Дюма «Граф Монтекристо». Это и фальшиво-педагогическое восклицание француженки, читающей маленькому Лужину этот роман: "бедный, бедный Дантес!"(100)[84]. И вовсе не случайная подпись сделанная Лужиным под нелепым письмом – «Аббат Бузони[85]»(208). Это и занимательные (возможно случайные, но тем более интересные) нумерологические совпадения. Роман Ал. Дюма начинается словами: «Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон»». Выше мы отмечали особую графическую и хронологическую роль числа 27 в романе Набокова, особенно отметим, что именно 27 числа Лужин написал вышеупомянутое нелепое письмо. 27 – это также тюремный номер «сумасшедшего аббата» Фариа[86]. Как мы помним, одной из ведущих тем романа Ал. Дюма является тема Рока, Судьбы рассмотренная сквозь ветхозаветно трактуемую проблему Божественной справедливости. Этот роман Ал. Дюма сконструирован словно бы по черно-белым законам шахматной партии. Все персонажи, совершив однажды свой роковой выбор между «добром и злом», далее превращаются лишь в фигуры в игре Рока, представленного в романе то в образе созидающего карающие или милующие комбинации почти всесильного Дантеса (пешка, прошедшая в ферзи), то как неявная, высшая сила, передвигающая и саму эту «фигуру», Дантеса.
Возвращаясь к теме Медного Всадника в критико-философской литературе начала прошлого века снова обратимся к работам В. Брюсова.
«Медный всадник» В. Брюсов обозревает различные интерпретации пушкинского произведения и вступает с ними в полемику. Определяя наиболее близкую его собственному прочтению точку зрения Д. Мережковского, он пишет: «Другие, мысль которых всех отчетливее выразил Д. Мережковский, видели в двух героях «Медного Всадника» представителей двух изначальных сил, борющихся в европейской цивилизации: язычества и христианства, отречения от своего я в боге и обожествления своего я в героизме. Для них Петр был выразителем личного начала, героизма, а Евгений — выразителем начала безличного, коллективной воли»[87].
И развивая этот пушкинский символ-образ, как бы в параллель полемическим наблюдениям Д. Мережковского над тем как Л. Толстой в «Войне и мире» «очеловечивает», снижает, развенчивает романтический образ Наполеона, и в унисон набоковскому стихотворению о Наполеоне, В. Брюсов пишет, что «Пушкин чувствовал, что исторический Петр, как ни преувеличивать его обаяние, все же останется только человеком. Порою из-под облика полубога будет неизбежно выступать облик просто «человека высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняного трубкою во рту, который, облокотись на стол, читает гамбургские газеты» («Арап Петра Великого»). И вот, чтобы сделать своего героя чистым воплощением самодержавной мощи, чтобы и во внешнем отличить его ото всех людей, Пушкин переносит действие своей повести на сто лет вперед («Прошло сто лет…») и заменяет самого Петра — его изваянием, его идеальным образом— не тот Петр, который задумывал «грозить Шведу» и звать к себе «в гости все флаги», но «Медный Всадник», «горделивый истукан» и прежде всего «кумир». Именно «кумиром», т. е. чем-то обожествленным, всего охотнее и называет сам Пушкин памятник Петра»[88].
То есть, по Брюсову, пушкинский Медный Всадник – это чистый, обезличенный идол, символ могущества и «самодержавной мощи». Что «во всех сценах повести, где является «Медный Всадник», изображен он как существо высшее, не знающее себе ничего равного. На своем бронзовом коне он всегда стоит «в вышине»<…> Говоря об этом кумире, высящемся над огражденною скалою, Пушкин, всегда столь сдержанный, не останавливается перед самыми смелыми эпитетами: это — и «властелин Судьбы», и «державец полумира», и (в черновых набросках) «страшный царь», «мощный царь», «муж Судьбы», «владыка полумира». Здесь вместе с превращением этого пушкинского образа в символ абсолютной силы, обратите внимание на выразительность и уместность в настоящем исследовании образов и эпитетов: «На своем бронзовом коне он всегда стоит «в вышине»», кумир высящийся «над огражденною скалою», «властелин Судьбы», «муж Судьбы». И «Высшей силы, - продолжает В. Брюсов, - это обожествление Петра достигает в тех стихах, где Пушкин, забыв на время своего Евгения, сам задумывается над смыслом подвига, совершенного Петром:
О, мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Образ Петра преувеличен здесь до последних пределов. Это уже не только победитель стихий, это воистину «властелин Судьбы». «роковой волей» направляет он жизнь целого народа. Железной уздой удерживает он Россию на краю бездны, в которую она уже готова была рухнуть»[89].
«по замыслу повести, должен быть ничтожнейшим из ничтожных» и что Пушкин «даже лишил его «прозвания», т. е. фамилии» и что, в конечной редакции осталось лишь:
«Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало…»[90]
В свете этих наблюдений В. Брюсова над пушкинской игрой с именем-фамилией своих героев, набоковская тема имен-фамилий в его шахматном романе получает дополнительные оттенки смысла.
«своего второго героя, Пушкин также не назвал его, находя, что «прозванья нам его не нужно». Изо всего, что сказано в повести о Петре Великом, нельзя составить определенного облика: все расплывается во что-то громадное, безмерное, «ужасное». Нет облика и у «бедного» Евгения, который теряется в серой, безразличной массе ему подобных «граждан столичных». Приемы изображения того и другого, — покорителя стихий и коломенского чиновника, - »[91].
То есть в стремлении создать чистые символы, Пушкин обезличивает своих героев. Выше мы показали, что безымянность Лужина имеет более сложные мотивы и связана, прежде всего, с подчеркиванием его шахматной фигурности, и далее покажем, как эта безымянность участвует также и в раскрытии темы утраты личности главным героем. Но как дополнительный оттенок смысла следует учесть и этот, восходящий к пушкинскому «Медному Всаднику» прием символического олицетворения. Тем более, что здесь нас более интересуют механизм превращения, сначала – прямого, героя/образа Медного Всадника в символ, а затем обратного, из символа в синтетический, единый но сниженный, ответный образ-аллегорию Лужина-черного шахматного коня. Отметим, что Пушкин лишает своего героя фамилии, обозначая предельно одинокую человеческую индивидуальность, а Набоков, своего героя лишает имени
И далее особое внимание В. Брюсов обращает на тему безумия пушкинского Евгения. Он замечает, что Пушкиным «в один год с «Медным Всадником» написаны стихи «Не дай мне бог сойти с ума», где Пушкин признается, что и сам «был бы рад» расстаться с разумом своим»[92]. А также, что особенно примечательно в связи с основанной на повторениях композицией набоковского романа, Брюсов указывает на аналогичную же сюжетную схему пушкинской поэмы. Он пишет: «Проходит год, наступает такая же тот же «мятежный шум Невы и ветров», который всечасно звучит в думах Евгения. Под влиянием этого повторения безумец с особой «живостью» вспоминает все пережитое и тот час, когда он оставался «на площади Петровой» наедине с грозным кумиром. ; он видит и каменного льва, на котором когда-то сидел верхом, и те же столбы большого нового дома и «над огражденною скалою»
Кумир на бронзовом коне.
«», говорит Пушкин. Слово «страшно» дает понять, что это «прояснение» не столько возврат к здравому сознанию, сколько некоторое прозрение. Евгений в «кумире» внезапно признает виновника своих несчастий,
Над морем город основался»[93].
Это пушкинское «Прояснились в нем страшно мысли» В. Брюсов не в пример некоторым набоковедам, усматривающим признаки выздоровления в аналогичных «прозрениях» Лужина[94], совершенно верно понимает как «прозрение» безумцем первопричины своих несчастий. Такого же рода «прояснение», случается и с Лужиным подслушавшим разговор в кабинете, и впервые уловившим «повторение», и в этом повторении почувствовавшим угрозу. «». «Комбинация, которую он со времени бала мучительно разгадывал, неожиданно ему открылась, благодаря случайной фразе, долетевшей из другой комнаты. В эти первые минуты он еще только успел почувствовать острую радость шахматного игрока, и гордость, и облегчение, и то физиологическое ощущение гармонии, которое так хорошо знакомо творцам. <…> И вдруг радость пропала, и нахлынул на него мутный и тяжкий ужаснеясно повторяется какая-нибудь задачная комбинация, теоретически известная, - так намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной ему схемы»(223). И подобно Лужину, решившему противостоять неведомому противнику, втягивающему его в свою игру, и необходимостью «придумать, пожалуй, защиту против этой коварной комбинации, освободиться от нее, а для этого следовало предугадать ее конечную цель, роковое ее направление»(224) пушкинский Евгений бросает дерзкий вызов медному истукану. И там и там, отчаяние, дерзость и безумие, доведены до последней точки и «. «Как обуянный силой черной», он (Евгений – С. С.) припадает к решетке и, стиснув зубы, злобно шепчет свою угрозу державцу полумира: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»»
И подобно тому, как преследует шахматный рок Лужина-шахматного коня дерзнувшего восстать, искать «защиту» от автора своей судьбы, также преследует, бросившего дерзкий вызов медному кумиру, Евгения и его наваждение – Медный Всадник.
«Лицо грозного царя, - пишет Брюсов, - возгорается гневом; он покидает свое гранитное подножие и «с тяжелым топотом» гонится за бедным Евгением. Медный Всадник преследует безумца, чтобы ужасом своей погони, своего «тяжело-звонкого скаканья» заставить его смириться, забыть все, что мелькнуло в его уме в тот час, когда «прояснились в нем страшно мысли».
И он по площади пустой
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал»[95].
В. Набоков здесь наследует пушкинский прием перенесения основного столкновения противостоящих сторон в миражное пространство поврежденного сознания, в зазеркалье безумия. Именно там, в больном сознании Евгения, по улицам бредом преображенного Петербурга преследует его Всадник Медный. Именно в поврежденном сознании Лужина одинокий и голый окружен он со всех сторон грозными, огромными богами его бытия, головастыми, венценосными. Но уже не от Медного Всадника, как символа силы, славы и величия спасается ничтожный, одинокий слабый человечек. А теперь уже сам этот воплощенный принцип «силы, славы и величия», тайно исповедуемый главным героем набоковского романа, сам «Медный Всадник», травестийно отобразившись в зеркале набоковского романа и превратившись в фигуру преследуемого, обреченного жертвенной гибели в гамбите, черного шахматного коня спасается, ищет защиту, в своем двумерном мире борьбы всех со всеми, от еще более сильной силы, от неведомого но еще более властного и безжалостного могущества. Но в этом безумном мире Евгения, «Медный Всадник достигает своей цели: Евгений смиряется. Второй мятеж побежден, как и первый. <> Евгений снова стал ничтожнейшим из ничтожных, и весною его труп, как труп бродяги, рыбаки похоронили на пустынном острову, «ради бога»»[96]. Равно как и в лужинском зазеркальном мире шахматного морока, все попытки фигурки черного шахматного коня, предуготовленного изобретателем Защиты Лужина к жертвоприношению, спастись, найти защиту от этой «защиты» своего автора, приводят лишь к полному и окончательному слиянию автора защиты с её персонажем, происходящему в момент смерти этого странного «шахматного кентавра» и падению его на разворачивающееся внизу поле новой «жизни», новой шахматной партии.
И далее, продолжая следовать за критической мыслью В. Брюсова, мы видим, как он обращается к основной теме пушкинской поэмы – теме свободы. Рассматривая эту поэму как «ответ Пушкина на упреки Мицкевича в измене «вольнолюбивым» идеалам юности», он пишет: «в середине 20-х годов, еще до события 14 декабря, в политических воззрениях Пушкина совершился определенный переворот. Он разочаровался в своих революционных идеалах. «свободе» он начал смотреть не столько с политической, сколько с философской точки зрения. Он постепенно пришел к убеждению, что «свобода» не может быть достигнута насильственным изменением политического строя, но будет следствием духовного воспитания человечества.
Эти взгляды и положены в основу «Медного Всадника».
Пушкин выбрал своим героем самого мощного из всех самодержцев, какие когда-либо восставали на земле. Это — исполин-чудотворец, полубог, повелевающий стихиями. Стихийная революция не страшит его, он ее презирает. Но когда восстает на него свободный дух единичного человека, «державец полумира» приходит в смятение. Он покидает свою «огражденную скалу» и всю ночь преследует безумца, только бы своим тяжелым топотом заглушить в нем мятеж души.
«Медный Всадник», действительно, ответ Пушкина на упреки Мицкевича в измене «вольнолюбивым» идеалам юности. «Да, — как бы говорит Пушкин, — я не верю больше в борьбу с деспотизмом силами стихийного мятежа; я вижу всю его бесплодность. Но я не изменил высоким идеалам свободы. Я по-прежнему уверен, что не вечен „кумир с медною главой“, как ни ужасен он в окрестной мгле, как ни вознесен он „в неколебимой вышине“. Свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и „огражденная скала“ должна будет опустеть» [97].
««Огражденная скала» должна будет опустеть». Вот высшая, по мнению Брюсова, цель и надежда Пушкина.
«I remember with special limpidity a sloping slab of rock, in the ulex- and ilex-clad hills, where the main thematic idea of the book first came to me»[98].
Картинность этого откровения, взятого в контексте настоящего прочтения романа, обращается к, идущей от вышерассмотренного рассуждения Брюсова об опустевшей скале, изобразительной эволюции образа и прочтения символа фальконетова монумента.
И что для нас особенно интересно - это то, что и художественно изобразительная эволюция образа и символа Медного Всадника (связанная с завуалированным визуальным набоковским иносказанием) исходила из того же источника, который в качестве символико-тематического основания образа Медного Всадника был нами рассмотрен выше. Это книга Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», публиковавшаяся в серии номеров 1900 – 1902 гг. художественного журнала «Мир Искусства». Журнала, столь любимого молодым Набоковым в те годы. Вот, например, как отзывается В. Набоков об этом журнале, при описании юношеских блужданий с возлюбленной, в автобиографическом «Память, говори»: «и оттуда опять на холод, в какие-нибудь переулки или к огромным воротам и позеленевшим львам с кольцами в зубах, в стилизованный снежный пейзаж “Мира Искусства” – Добужинского, Александра Бенуа – столь любимый мною в те дни» [99].
Наиболее известные и по сей день непревзойденные иллюстрации к пушкинской поэме принадлежат одному из постоянных участников творческого объединения «Мир искусства» Александру Бенуа. Тому самому, о котором Набоков вспоминает в «Других берегах»: «Александр Бенуа, проходя мимо них (картин Айвазовского – С. С.) и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного Перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло мычал «Non, non, non, c'est affreux (Нет, нет, это ужасно» (франц.)), какая чушь, задерните чем-нибудь"- и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его, действительно прелестные, дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось, «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез»[100].
Как сообщается в «Справке об иллюстрациях к «Медному Всаднику»» в издании 1923 г., под редакцией П. Е. Щеголева: «Мысль объ иллюстрированiи «Меднаго Всадника» явилась у Александра Бенуа въ 1903 г. что-либо иллюстрировать изъ произведенiй русскихъ авторовъ. Этими иллюстрациями художникъ былъ занятъ въ Римъ и Петербургъ, весною и летомъ 1903 г. Но вследствiе недоразуменiй, возникшихъ между издателями и авторомъ, это изданiе было отложено, a иллюстрацiи были прiобретены С. П. Дягилевымъ для Журнала «Мiръ Искусства», въ которомъ онъ и появились въ N 1 за 1904 г.»[101]
То есть в 1902 г. завершается публикация Миром Искусства книги Мережковского, роль и значение пушкинской поэмы в которой мы могли оценить выше, а в 1903 г. Бенуа избирает «Медного Всадника» в качестве предмета своих иллюстраций. Отметим также, что иллюстрацию к одной из краеугольных сцен в поэме А. Бенуа посвятил Д. С. Мережковскому.
![]()
«И прямо въ темной вышинъ
Кумиръ съ простертою рукою
Сидълъ на бронзовомъ конъ.
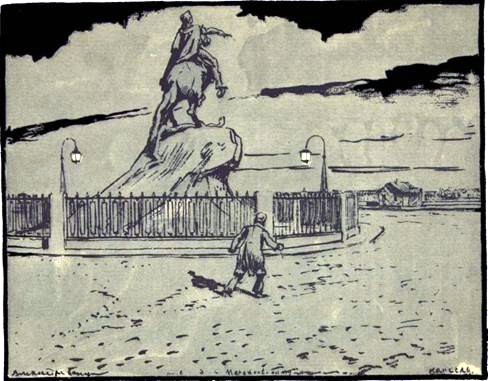
Евгенiй вздрогнулъ. Прояснились
Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
Гдъ волны хищныя толпились,
Бунтуя злобно вкругъ него,
И львовъ, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Того, чьей волей роковой
Надъ; моремъ городъ основался...»[102]
Таким образом, поднятая Мережковским в 1900-м году в журнале «Мир Искусства» тема Медного Всадника продолжилась публикацией в 1 номере 1904 г. этого же журнала поэмы Пушкина оформленной 33-мя иллюстрациями Александра Бенуа.
Вот с таким, выразительно мрачным изображением на титульной странице скалы и Медного Всадника, грозно нависших над, оказавшимся в роли бедного Евгения, читателем.

этой статьи в 3-м томе Собрания сочинений А. С. Пушкина под ред. С. А. Венгерова в Библиотеке великих писателей. Изд. Брокгауз-Ефрон. С. -Петербург, 1909 г. в 6 т., она завершалась рисунком из пушкинской рукописи незавершенной поэмы «Тазит»[103] относящимся к тому самому заключительному выводу Брюсова: «„огражденная скала“ должна будет опустеть» [104]. В более поздних переизданиях этой статьи пушкинский рисунок был, к сожалению, исключен.
1)
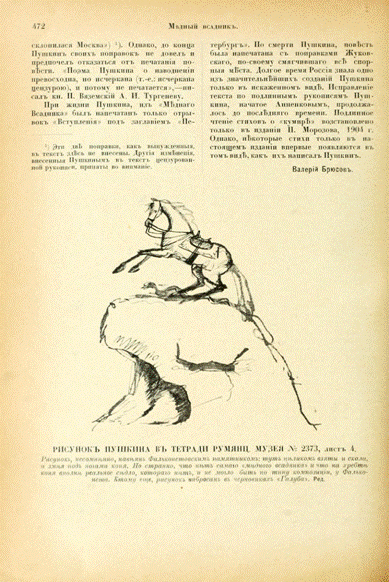
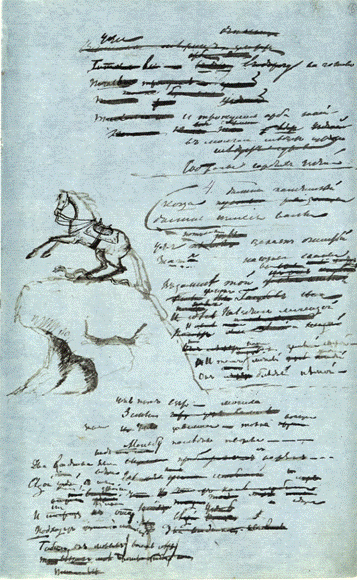
1) Собрание сочинений А. С. Пушкина в 6 т. под ред. С. А. Венгерова в Библиотеке великих писателей. Изд. Брокгауз-Ефрон. С. -Петербург,1909 г., т. 3, Стр. 472
2) А. С. Пушкин, Рабочая тетрадь 1829-1833 гг. (Вторая Арзрумская), лист 6.
Здесь, столь странный набросок осёдланного, но лишившегося своего Всадника коня, на хорошо узнаваемом петербургском «гром-камне», соседствует с пушкинскими черновыми набросками к поэме «Тазит», посвященной темам кавказских завоеваний Российской Империи, её европейски-цивилизаторским «укрощением», «обузданием» диких азиатских народов. И как передает Н. В. Измайлов, Якушкин и Эфрос связывали этот рисунок с первым замыслом «Медного Всадника»: «с постамента исчезает Петр, но не вместе с конем, как в окончательной редакции, а один, то есть Евгения преследует бронзовая фигура Петра, как мраморная фигура Командора убивает Дон-Жуана в „Каменном госте"»[105]. Сам же Измайлов полагает, что рисунок был сделан ранее текста черновой рукописи «Тазита» и был связан с встречами Пушкина с А. Мицкевичем, «одна из которых — на площади у памятника Петра — послужила основой для позднейшего стихотворения Мицкевича «Памятник Петра Великого» («Pomnik Piotra Wielkiego»)», и «что и рисунок Пушкина в какой-то мере отражает эти беседы у памятника»[106].
И, наконец, в издании 1923 года тема опустевшей «отлогой скалы» находит окончательное художественно-изобразительное разрешение в последней иллюстрации А. Бенуа к поэме. Возможно, не без влияния поздних размышлений В. Брюсова о сокровенной пушкинской мечте «„огражденная скала“ должна будет опустеть» [107] А. Бенуа завершает этот иллюстративно-символический ряд следующим рисунком.

Подпись под иллюстрацией:
«Александр Бенуа С. П. Б. 1921 г.»
скалы, сопровождаемом пушкинским рисунком фальконетова коня без Всадника. И разрешается, наконец, эта символическая трансформация монумента итоговой иллюстрацией А. Бенуа, на которой двое прохожих (один из которых в узнаваемо пушкинском «боливаре», а второй в демократическом котелке будущих поколений) с удивлением созерцают опустевшую скалу.
Набоков начинает там, где поставил точку Пушкин. Проблема подлинного освобождения, символом которой Брюсов вослед Пушкину видит опустевшую, покинутую Медным Всадником на черном коне «отлогую скалу», ставится в рафинированном пространстве шахматного инобытия. В этом иносказательно-аллегорическом, черно-белом мире, на примере неудавшегося освобождения, когда попытка спастись через поиск «защиты» неизбежно приводит к порочному кругу неизбывного само-порабощения, отрицательным образом рассматриваются условия и признаки подлинного освобождения-спасения. Условия и признаки, обращенные к миру реальному, к человеку во всей полноте и многообразии творческих сторон его жизни, к человеку как Личности.
Эта ситуация с пустой «отлогой скалой» в зачине композиционной интриги романа напоминает известную набоковскую шахматную задачу/«сказку» посвященную Евгению Зноско-Боровскому, в которой «Белые берут назад один ход и ставят мат в один ход»[108]. Только здесь, в качестве опровержения ложного решения задачи, черного коня-Всадника в романе следует снова водрузить на высоту шахматного поля, позволить ему, как простой шахматной фигуре опять пройти всеми кругами его персонального шахматного ада и показать что итоговое его жертвоприношение в гамбите, прыжок в расквадраченную пропасть двора не решает пушкинско-брюсовской проблемы свободы в символе опустевшей скалы. Важна не просто опустевшая скала, но то - каким образом она опустела. Вспомним еще раз выразительно откровенное признание Набокова: «Я думал сам о шахматных темах, о задачах, предполагающих исчезновение коня и затем его возвращение из пространства»[109]«задачи» должны быть задействованы совершенно иные «аксиомы и механизмы». Подлинное решение проблемы тем самым апофатически очищается (исключением ложного решения в «Защите Лужина»), предуготовляется для картины взлетающего со скалы в закатное небо (?шахматного?) Белого Коня поэтов – Пегаса.
Переигрывая последний ход, на пустую, «отлогую скалу» шахматного поля жизни должен быть помещен не Черный, в пропасть безысходных повторений низвергающийся Конь (Медный Всадник), а взлетающий к небесам подлинной свободы Конь Белый (Пегас).
И вновь обращается Брюсов к темам пушкинской поэмы в своей педагогической статье «Синтетика поэзии».
произведения. И многие положения, формулируемые В. Брюсовым, позднее, как находят отклик, так и подвергаются ответному переигрыванию, уже на языке самого художественного произведения, в изучаемом нами романе Набокова.
Так, начиная свою статью, Брюсов, совершенно справедливо пишет: «Искусство, в частности поэзия, есть акт познания; таким образом, конечная цель искусства та же, как науки, — познание. <…> Создание языка было и остается процессом познавательным. Слово есть первичный метод познания. <…> Назвать — значит узнать, и следовательно, познать. Совершенно параллелен, аналогичен этому процесс создания поэтического произведения, художественное поэтическое творчество». И далее продолжая сравнивать «познание поэтическое» с познанием научным, Брюсов пишет: «Общий ход познавания состоит «в объяснении нового, неизвестного при посредстве уже познанного, известного, названного» (формулировка А. Горнфельда). <…> Поэтическое творчество идет по тому же пути. Поэт в своем произведении называет то, что он хочет себе уяснить, — называет при помощи уже известных названий, т. е. объясняет неизвестное через известное, иначе — совершает акт познания. Плох тот поэт (вывод А. Потебни), который ищет выражения (образов) для готовой, заранее найденной идеи; идея произведения, его основная мысль, для истинного поэта всегда X, искомое, то, что получается в результате творчества. «даль свободную романа» всегда сначала различает «неясно», «сквозь магический кристалл» (Пушкин). Вот почему «болящий дух врачует песнопенье» (Баратынский), вот почему от «могучего образа», «возмущающего ум», можно «отделаться стихами» (Лермонтов).
Поэзия, вообще искусство, как и наука, есть познание истины — вот вывод, к которому пришло современное знание. «Врата красоты ведут к познанию», выражал это, в своих терминах, Шиллер. «Наука и искусство равно стремятся к познанию истины», говорил еще Карлейль. «Искусство дает форму знания», утверждал Рескин. Познание истины — это побуждение, которое заставляет ученого делать свои исследования, а художника — создавать свои произведения»[110]. Вослед брюсовскому утверждению, что «искусство есть акт познания», в контексте нашего исследования, в этом рассуждении важно отметить ещё два положения. Первое – это то, что: «Общий ход познавания состоит «в объяснении нового, неизвестного при посредстве уже познанного, известного, названного»», то есть прежде чем переходить к «объяснению нового» в набоковском романе мы должны осознать, увидеть состояние «уже познанного». Изучить тот специфический язык аллегорий и символов, на котором изъясняются в этой познавательной отрасли. И второе – это ясное понимание особенности этой «поэтической» истины, искомой идеи, (о которой в последнем пределе и идет у нас речь) заключающейся в том, что «идея» подлинного произведения искусства не дана априори, до создания этого произведения, что «идея произведения, его основная мысль, для истинного поэта всегда X, искомое, то, что получается в результате творчества». «художественной идеи» в последующем читательском восприятии, по определению, оказываются на порядок более абстрактными, фрагментарными и односторонними. Хотя и более общеупотребимыми, что, впрочем, можно расценивать и как благо и как зло.
И далее, проявляя различие познавательного метода науки и искусства В. Брюсов пишет: «Наука идет от частного к общему, от конкретного явления или предмета, т. е. от представления, к понятию. Поэзия, в противоположность этому, берет именно частные случаи, единичные факты, претворяет понятия в целостные представления, т. е. как бы в конкретные явления или предметы. Однако за каждым таким конкретным явлением, под каждым представлением, в поэзии скрыто некое общее положение, некая условная «истина», взятая аксиоматично (как аксиома), как что-то само собой несомненное, самоочевидное. Связывая синтетически представления, поэзия тем самым связывает и эти аксиомы, выводя из двух (или нескольких) — новую. Эта новая истина в совершенном поэтическом произведении предстанет тоже в виде представления— в виде отвлеченного суждения. Но эта новая истина и будет тем X, тем искомым, ради которого создавалось все поэтическое произведение»[111]. И в качестве примера подобного «синтетического связывания представлений», идей, порождающего новую истину, новый синтез, приводит тематическое столкновение в поэме Пушкина «Медный всадник». «В повести две центральные мысли: первая, — что «великий человек», «герой», имеет право ради своих великих, мировых целей пренебрегать судьбой отдельных личностей; вторая, — что каждый человек, как бы мал и ничтожен он ни был, имеет право на свое личное счастье. Первая идея воплощена в образе Петра I; вторая — бедного Евгения; намеренно Петр взят не в своем реальном образе, а в своем идеальном воплощении в создании художника, как «Медный всадник», как «исполин», как «кумир», а Евгений сделан ничтожнейшим из ничтожных — он сам признается, «что мог бы Бог ему прибавить ума…», и поэт сознательно отбросил предназначавшееся раньше для повести пышное родословие своего героя. Связью между этими двумя образами является образ Петрограда — города, который «роковой волей» Петра основан «над морем» и в котором, по тому самому, во время наводнения 1824 года гибнет все счастье Евгения — его невеста. Для Петра было важно одно — «в Европу прорубить окно»; Эти две идеи, теза и антитеза, дают как синтез третью: «сколько бы ни был прав „великий человек“, „малые“ восстанут на него за его пренебрежение к их личным интересам». Этот вывод также воплощен в образе Медного Всадника, смутившегося от угроз бедного Евгения («ужо тебе»), соскакивающего со своего пьедестала и скачущего за несчастным «по потрясенной мостовой»[112].
В этом отрывке для нас интересна не столько содержательная его часть, сколько концентрация этого образа, и утверждение, в еще одном повторении, символически-иносказательной его интерпретации. И завершает это свое исследование Брюсов словами, так же как и в случае с Д. Мережковским, подразумевающими задачу будущим писателям и интерпретаторам. «Такие примеры можно было бы продолжать без конца. Почти все произведения Пушкина, романы Достоевского, трагедии Шекспира, почти все «классические» произведения мировой литературы могли бы служить примерами. Разумеется, не всегда встречается отчетливое построение тезы, антитезы и синтеза. Иногда дается синтез трех и большего числа идей; иногда синтезы нескольких пар идей и потом синтез этих синтезов, взятых как тезы и антитезы; иногда одна из идей не выражена, а подразумевается, и т. д. Но как ни многообразны композиционные формы поэтических произведений, каждое из них непременно дает, как конечный результат, некоторое синтетическое суждение»[113]. То есть своего рода комбинаторика построения художественного текста с целью выражения и постижения «художественной истины» выдвигается как своеобразная, но неотъемлемая задача писательского и читательского творчества. И это размышление, сопряженное с проблемой пушкинского образа также вполне могло послужить одним из стимулов к продолжению начатой комбинационной игры, как поиску новых форм выражения нового видения связанных с этим образом вопросов. В связи с этими размышлениями В. Брюсова о тематически-композиционной природе художественного текста на примере пушкинского «Медного всадника» снова вспомним аналогичное высказывание В. Набокова связывающего эту тему с шахматной композицией, сделанное в беседе с Пьером Домергом: «Именно комбинация разнообразных тем создает задачу. Мошенничество, возведенное в колдовство. »[114]. Или, еще далее, проводя аналогию между «сочинительством» шахматной задачи и «писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов», В. Набоков пишет: «для этого сочинительства нужен не только изощрённый технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то соборному, музыкально-математическому типу. … В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством и, в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и даёт чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам»[115]. То есть «комбинация разнообразных тем» превращается в живую плоть художественного произведения. Или, продолжая наметившуюся здесь «анатомическую» аллегорию, поясним/оправдаем и связанный с подобным характером писательского творчества применяемый нами метод критического анализа/разъятия и синтеза изучаемого текста. Для того чтобы увидеть «живую плоть» романа во всей полноте её внутреннего строения и внешнего образа, в единстве формы и содержания, был вычленен его композиционный остов, скелет, основание, опорный узор. В- и на- котором подобно органам и мышцам этого «создания», этой одушевленной и одухотворенной писательским вдохновением и читательским сочувствием «твари» восстанавливается, воссоздается, теперь уже по внутренним его законам, самое тело романа. И рассматриваемый нами сейчас в сравнительном сопоставлении образов-символов идейно-тематический генезис, развитие романа, ни что иное, как наблюдение за процессом зарождения, созревания и трансформации в «магических алембиках и ретортах» авторского сознания этих «органов» из которых впоследствии и было собрано «тело» романа.
Впрочем, подчеркнем еще раз, что подобный, «анатомический» подход к художественному тексту не является универсальным. И связан он в данном случае, исключительно с продекларировано-комбинационным характером изучаемого текста. Так, например, тот же Д. Мережковский, чьё влияние на набоковское творчество мы рассматривали выше, сам подвергался критике за подобную «вивисекцию» литературного творчества Ф. Достоевского, Н. Бердяевым, который писал: «Его подход к Достоевскому все же принципиально неверен. Всякого великого писателя, как великое явление духа, нужно принимать как целостное явление духа. В целостное явление духа нужно интуитивно проникать, созерцать его, как живой организм, вживаться в него. Это - единственный верный метод. Нельзя великое, органическое явление духа подвергать вивисекции, оно умирает под ножом оператора, и созерцать его целость уже более нельзя. К великому явлению духа нужно подходить с верующей душой, не разлагать его с подозрительностью и скепсисом. Между тем как люди нашей эпохи очень склонны оперировать любого великого писателя, подозревая в нем рак или другую скрытую болезнь. И целостный духовный образ исчезает, созерцание делается невозможным. Созерцание несоединимо с разложением предмета созерцания. И я хочу попытаться подойти к Достоевскому путем верующего, целостного интуитивного вживания в мир его динамических идей, проникнуть в тайники его первичного миросозерцания»[116].
Однако то, что неприемлемо по отношению к Достоевскому или, например, к Бунину, не выносившему, как он сам это называл, всякого рода «штукарств» в литературе, допустимо и прямо предполагается в случае с Набоковым, конструировавшим свои произведения подобно шахматным задачам, крестословицам, рассыпанным пазлам. Использовавшим самые разнообразные игровые стратегии и приемы комбинации тем, символов и образов в художественном тексте. И неустанно требовавшим и от читателя особого внимания к скрытым композиционным узорам, текстуре собственных произведений. Вплоть до того, что подобно рассматриваемому нами роману, именно скрытый узор и внешне неявная аллегорическая игра проявляют столь отдаленные источники и тематические основания смысло-содержательных выразительных его конструкций. Образ Медного Всадника неразличим на плоской поверхность текста. В тексте нет ни одного указания на этот пушкинский образ «фальконетова монумента». Однократное прочтение книги очень далеко от её понимания. «Пусть это покажется странным, но книгу вообще нельзя читать — ее можно только перечитывать. Хороший читатель, читатель отборный, — это перечитыватель»[117]. Только через многократные перепрочтения романа, вполне уяснив себе его содержание, взятое в единстве скрытого композиционного основания и сюжетной, образной, тематической фактуры текста, перейдя от плоского видения, к объемному, можно различить авторское высказывание и действительное место романа в культурном контексте эпохи.
И далее, возвращаясь к теме Медного Всадника, поднявшего Россию на дыбы, застывшего перед прыжком у самого края пропасти, рассмотрим еще одно её проявление в романе А. Белого «Петербург», где он продолжает, развивает и еще более отчетливо вводит её в контекст изучаемого нами романа.
Творчеству А. Белого в 20-е. годы В. Набоков уделял особое внимание. Это и ритмическо-геометрические штудии в области стихосложения, и использование музыкально организующих текст приемов: «Симфонии» А. Белого и романа В. Набокова «Король, дама, валет», и прямые заявления об особой роли произведений А. Белого в его творческой эволюции.
Явный отпечаток внимания Набокова к произведениям Белого виден, например, в стихотворении «Кубы» 1924 г. И характерная замена эпитетов в английской версии романа «Защита Лужина». «Очень, очень симпатичный куб". "Здорово, прямо ", - проговорила теща»(220) / «'A very, very handsome cube. ' 'Well done, you're a real cubist,' said his mother-in-law». Вспомним, что писал о романе «Петербург» Н. Бердяев: «В точном смысле кубизма в литературе нет. Но там возможно нечто аналогичное и параллельное живописному кубизму. Творчество А. Белого и есть кубизм в художественной прозе, по силе равный живописному кубизму Пикассо»[118].
Как пишет Б. Бойд: «Набоков назвал шедевр Белого роман «Петербург» — вместе с «Улиссом», «Превращением» Кафки и «В поисках утраченного времени»»[119]. Вот какую высокую оценку Набокова получил этот, вышедший в 1913 г. в издательстве «Сирин», роман А. Белого. И что «когда он открыл для себя «Петербург», то «четыре раза с упоением перечитал его»[120].
Интересно как в биографической книге Бойда сходятся интерес, повышенное внимание Набокова к творчеству Белого и его увлечение шахматной композицией. «Но там, где приемы Белого вьются вокруг встревоженным роем, приемы Набокова так ладно пригнаны друг к другу, как кружки на схеме «Большой Медведицы» .
Что касается шахматных задач, то интерес к ним Набокова стремительно возрастал. Единственная уцелевшая рабочая тетрадь, которую он вел в сентябре — октябре 1918 года, имеет название «Стихи и схемы», удивительным образом предвосхищающее его «Стихи и задачи» 1970 года. «Схемы» здесь — это не только стиховедческие записи по Белому, но и диаграммы нескольких шахматных задач»[121]. Жаль только, что это ценное наблюдение над черновиками и рукописями В. Набокова не нашло отражения в критических текстах самого Б. Бойда.
«Белый признавал Мережковского одним из своих литературных наставников. Он вспоминал, как студентом трудился над первыми своими литературными опытами, "Симфониями", мысленно не расставаясь с Ницше и Мережковским»[122].
«Петербург» образ-символ Медного Всадника несет центральную символико-аллегорическую нагрузку. Как пишет в 1916 г. Н. Бердяев в посвященной «Петербургу» статье «Астральный роман»: «Медный Всадник раздавил в Петербурге человека. Образ Медного Всадника господствует над атмосферой "Петербурга" и повсюду посылает свой астральный двойник»[123].
Или, как пишет Д. Лихачев в предисловии к этому роману: «В самой острой форме «Петербург» Белого противостоит «Медному всаднику» Пушкина и одновременно как бы продолжает и развивает его идеи»[124].
Медный Всадник, как воплощение европейской, цивилизаторской силы в романе Белого связан, противостоит, преследует, борется за душу полубезумного, колеблющегося адепта варварства, хаоса и необузданных стихий, тезку Лужина, Александра Ивановича Дудкина. «Александр Иванович в эту пору проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев; проповедовал он и призванье монголов (впоследствии он испугался монголов). Все явления современности разделялись им на две категории: на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маскою утонченности () и под этою маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в душах. Александр Иванович приглашал поснять маски и открыто быть с хаосом»[125].
Александр Иванович Дудкин, вокруг которого в романе А. Белого завязаны отобразившиеся позднее в набоковском романе темы, так же, подобно выше рассмотренным параллелям гроссмейстера Лужина с дельцом Лужиным Достоевского и белым рыцарем Кэрролла, относится к героям второго плана. И, так же как и там, наряду с формальными привязками-приметами, такими как одинаковость имени, подобие психического заболевания, перекликающиеся детали описания и пр. выражает более глубокие смысло-тематические линии идущие от пушкинского символа-образа Медного Всадника через позднейшие его интерпретации Д. Мережковским и В. Брюсовым к набоковскому роман.
«Защитой Лужина». Где все богатство выразительных приемов работает на создание стройной, единой, внутренне со-организованной, картины, которая представляет собой вполне определенное, развернутое высказывание в живой полемике с предшественниками и современниками, а не тот бессмысленный, хаотический калейдоскоп пестрых образов и невразумительных аллюзий, каковыми порой читателю преподносятся критиками и комментаторами набоковские произведения.
И сама история Александра Ивановича Дудкина в романе «Петербург» является продолжением, тематическим инвариантом-размышлением о проблемах пушкинского «Медного всадника». Созвучие, параллельность, множественно проявленная и явно акцентируемая, как мы увидим далее, самим А. Белым. Так, даже одним из эпиграфов к истории Александра Ивановича берется двустишье из «Медного всадника»: «За ним повсюду Всадник Медный / С тяжелым топотом скакал. А. Пушкин»[126].
А в сцене посещения Медным Всадником полубезумного Александра Ивановича в его каморке на пятом этаже А. Белый и вовсе, прямо объединяет обе эти истории: «— теперь, в самый тот миг, когда за порогом убогого входа распадались стены старого здания в купоросных пространствах; так же точно разъялось прошедшее Александра Ивановича»[127].
«Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял, что столетие он бежал понапрасну, что за ним громыхали удары без всякого гнева»[128]
«Петербург» продолжает и по новому развивает, идущее от Пушкина, дополненное Достоевским и сформулированное Мережковским противопоставление героической, созидающей воли и первобытной стихии. Причем теперь уже это противопоставление продолжается в противопоставлении «Запада» - «Востоку». Еще раз повторим высказывание Д. Мережковского: "вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною"[129]. Не та же ли это бездна, о которой говорит Пушкин, - над которой Медный Всадник на своей обледенелой глыбе гранита вздернул Россию на дыбы железною уздой? Такого страшного ощущения этой бездны, как у нашего поколения, не было ни у одного из поколений со времени Петра. На Западе, то есть в Европе, - "дух ратный", на Востоке, то есть России, - "дух благодатный", как утверждали в Космографиях московские книжники XVII века, или, говоря языком Достоевского, - Человекобог и Богочеловек, Христос и Антихрист - вот два противоположные берега, два края этой бездны. И горе наше или счастье в том, что у нас действительно "две родины - наша Русь и Европа", и мы не можем отречься ни от одной из них: мы должны или погибнуть, или соединить в себе оба края бездны»[130].
И сравните, например, с этим высказыванием, со всем, что говорилось выше об отражении символа-образа Медного Всадника в произведениях Пушкина, в размышлениях Достоевского, Мережковского, Брюсова следующий отрывок из романа А. Белого «Петербург». «За собой Александр Иванович оставил бриллиантами блещущий мост. Дальше, за мостом, на фоне ночного гренадером недоуменно выкинул конь два передних копыта; а внизу, под копытами, медленно прокачалась косматая, гренадерская шапка засыпающего старика. Упадая от шапки, о штык ударилась бляха. Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двоился двусмысленным выраженьем; в бирюзовый врезалась воздух ладонь.
С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия.
Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних.
Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, – хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы?[131] Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках?[132] – среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то – в денное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести великого Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?
Да не будет!..
Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей – будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич.
Петербург же опустится.
– брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!..
Куликово Поле, я жду тебя!
Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов – в прародимые, в давно забытые хаосы…
Встань, о Солнце!»[133]
В этой символической картине А. Белый продолжает вышеобозначенное противоречие и усиливает его, расставляет дополнительные акценты и проповедует новое его разрешение. Противостоящая силе Медного Всадника сила стихии, хаоса обретает у него черты востока, «желтые полчища азиатов». Символ Медного Всадника распространяется до всемирных масштабов столкновения Востока и Запада. «Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, – брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!..
»
Но в отличие от взглядов Мережковского, проводящего внутреннее противоречие символа Медного Всадника к противостоянию «Антихриста» и «Христа», А. Белый акцентирует в этом пушкинском образе-символе противостояние «Востока» - «Западу». Религиозный же исход из этого противоречия видит он в третьей, стоящей над ним силы. Ни стихия и хаос «востока», лежащие в основании «вздернутого на дыбы» коня - России, ни цивилизаторская, «европейская», творящая воля Всадника не несут в себе подлинной свободы. В ночном мире романа «Петербург» их столкновение неизбывно. Каждая из этих сил доводится Белым до абсурда в предельной точке бредовых наваждений психически больного персонажа, Александра Ивановича Дудкина, особенно интересного нам в этом романе. Тогда как подлинным, положительным итогом, разрешающим это мистико-апокалипсическое столкновение звучит религиозно-иносказательный призыв А. Белого, «Встань, о Солнце!». «Которое, - как пишет во вступительном слове к одному из изданий романа И. Сухих, - символизирует Христа[134] (на это прямо указывалось в черновике)»[135].
Это столкновение «Востока» с «Западом» наиболее емко и выразительно отображается на втором плане романа, в кошмарных, бредовых визитах к Александру Ивановичу. Сначала к нему является «персидский подданный Шишнарфнэ» («Восток») с образом которого он связывает начало «ему угрожавшей болезни; <…> вся та праздная, будто кем-то внушенная, началась его мозговая игра» и свое прежнее увлечение сатанизмом. А затем громогласно приходит и сам Медный Всадник («Запад»), который в этом бредовом видении соединился с Александром Ивановичем, «металлами пролился в его жилы»[136]. После чего Александр Иванович, в сцене убийства провокатора Липпанченко, сам превращается в карикатурную пародию Медного Всадника.
«И пошатнулся всадник медный,/ и помрачился свод небес,/ и раздавался крик победный: / «Да здравствует болотный бес»» [137].
В статье «Иван Александрович Хлестаков», А. Белый пишет: «Медный всадник вздыбился конем над скалой, чтобы перебросить Россию через бездну на новую скалу новой жизни, но встали тени, оплели коню ноги.
И Медный всадник века тут стоит в застывшем порыве среди нечистых сетей тумана. О, когда же, когда же рассеются тени — котелки, перчатки, трости, орденские знаки, собравшиеся гурьбой вокруг него, чтобы затопить туманом!
" „нежитей, недотыкомок, чертяк", и взлетит Россия — Медный всадник — в глубокую свободу безоблачной лазури.
А пока — ужас, ужас...»[138].
И как воплощение этих «нежитей, недотыкомок, чертяк», предельной точкой инфернального в романе Белого появляется первый посетитель, «персидский подданный Шишнарфнэ», продукт галлюцинации, болезненного бреда Александра Ивановича. Образ этого «господинчика», сцена его ночного посещения Александра Ивановича рассматривается в литературоведении как «явное заимствование у Достоевского. <…> Этот разговор воспроизводит ту страшную ночную беседу, которую ведет в романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов со своим двойником-чертом»[139]. «В роли Ивана у Белого выступает террорист Дудкин, в роли его двойника-черта оборотень Шишнарфне»[140]
«злого духа» - Валентинова.
Вот как, в унисон лужинскому безумию А. Белый из бреда Александра Ивановича Дудкина, конструирует образ господина Шишнарфнэ: «иногда он (Александр Иванович – С. С.) договаривался до того, что после ощущал настоящие припадки мании преследования: возникая в словах, они продолжалися в снах: временами его необыкновенно зловещие сны учащались: сон следовал за сном; иногда в ночь по три кошмара; в этих снах его обступали все какие-то хари (почему-то чаще всего татары, японцы или вообще восточные человеки); эти хари неизменно носили тот же пакостный отпечаток; пакостными своими глазами все подмигивали ему; но что всего удивительнее, что в это время неизменно ему вспоминалось бессмысленнейшее слово, будто бы каббалистическое, а на самом деле черт знает каковское: енфраншиш; при помощи этого слова он боролся в снах с обступавшими толпами духов. Далее: появлялось и на яву одно роковое лицо на куске темно-желтых обой его обиталища; наконец, изредка всякая дрянь начинала мерещиться: и мерещилась она среди белого дня, если подлинно осенью в Петербурге день белый, а не желто-зеленый с мрачно-шафранными отсветами»[141]. И бредовый разговор с окончательно воплотившимся в фигуру «персидского подданного» наваждением.
««Наши пространства не ваши; все течет там в обратном порядке… И просто Иванов там – японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитанная в обратном порядке – японская: Вонави».
– «Стало быть, и ты прочитываешься в обратном порядке», – прометнулось в мозгу.
И понял он: «Шишнарфнэ, Шиш-нар-фнэ…» Это было словом знакомым, произнесенным им при свершении акта; только сонно знакомое слово то надо было вывернуть наизнанку.
– «Енфраншиш»»[142]
В ходе всего романа продолжается безумная, неизбежная, но безысходная тяжба, противостояние и сопротивление этому наваждению, собственному бреду.
Александр Иванович Дудкин, подобно своему шахматному тезке постепенно сходит с ума, что также проявляется у него в мании преследования, в повторяющихся приступах страха, галлюцинациях.
Иванович Дудкин. Мания преследования, психическая неуравновешенность персонажа отражают страхи и комплексы его автора. В. Ходасевич вспоминал одну из встреч с А. Белым: «Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. <…> Потом он приходил ко мне – рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.
Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца»[143]. «чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожделения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербурга» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, т. е. с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного Голубя»[144].
И поздние исследователи творчества А. Белого считали, что «Персонификации и символизации личных переживаний он всегда придавал большое значение»[145].
Это сочинение собственных двойников, игровое самоотчуждение в персонаже, отражение в зеркале художественного вымысла снова напоминает нам об аналогичных приемах и у Л. Кэрролла и у В. Набокова.
Александр Иванович - искривленное отображение, доведенная до предельной степени авторская психическая неуравновешенность.
«Озаренный, весь в фосфорических пятнах, он теперь сидел на грязной постели, отдыхая от приступов страха; тут – вот был посетитель; и тут – грязная проползала мокрица: посетителя не было. Эти приступы страха! За ночь было их три, четыре и пять; за галлюцинацией наступал и просвет сознания»[146].
«И пока это делалось с ним, он и думал, что они его ищут; а они были – в нем»[147].
Примечательно, что неожиданная встреча и последующий визит этого анаграмматически сконструированного человечка, господина в «котелочке», (он же, в воспаленном воображении Александра Ивановича - «космополит», «черный контур», сатанист, «паспортист потустороннего мира»[148]) выписаны предельно в унисон лужинскому роковому столкновению с Валентиновым в последней главе (дополнительно указывая на инфернальную природы Валентинова в набоковском романе). Сравните. Загнанный, спасающийся от преследования, полубезумный Александр Иванович Дудкин, в надежде спрятаться, укрыться у себя дома, в каморке подходит к подъезду.
«Дело было все в том же: Александра Ивановича они стерегли», – «Это вас они ищут…»
– ищут?.. <…> – «Это вас они ищут…» <…> Александр Иванович перевел дыхание и дал себе заранее слово не ужасаться чрезмерно, потому что события, какие с ним теперь могли совершиться, – одна только праздная, мозговая игра. <…> у перил же стояли они: два очертания; пропустили Александра Ивановича, стоя справа и слева от него; также они пропустили Александра Ивановича и тогда; ничего не сказали, не шевельнулись, не дрогнули; »[149].
И эти зловещие двое, поджидающие его, были «Махмудка, житель подвального этажа» и «господинчик в котелке».
«Один силуэт оказался просто-напросто татарином, Махмудкой, жителем подвального этажа; в желтом трепете догоравшей и мимо падавшей спички Махмудка склонился к господинчику обыденного вида; господинчик обыденного вида был в котелке, человек что-то силился спросить у Махмудки, а Махмудка качал отрицательно головой». («он виднелся у двери; он снял котелочек; не скидывал пальтеца»[150]. Этот «котелок», «котелочек» у Белого не просто головной убор – это знак. Признак буржуазной инфернальности. «О, когда же, когда же рассеются тени — перчатки, трости, орденские знаки, <…> Когда же слово покроет ,,писки" „нежитей, недотыкомок, чертяк"»[151]. И в таком же качестве, заметим, оказавшийся на голове Валентинова)
В набоковском романе Александр Иванович Лужин, «подходя к дому, <…> заметил, что у подъезда остановился большой, зеркально-черный автомобиль. Швейцар, увидав Лужина, вдруг протянул палец и крикнул: "Вот он!" [152] Господин обернулся. Слегка посмуглевший, отчего белки глаз казались светлее, все такой же нарядный, в пальто с котиковым воротником шалью, в большом белом шелковом кашне, Валентинов шагнул к Лужину с обаятельной улыбкой, - озарил Лужина, словно из прожектораувидел полное, бледное лужинское лицо, моргающие веки, и в следующий миг это бледное лицо потеряло всякое выражение, и рука, которую Валентинов сжимал в обеих ладонях, была совершенно безвольная»(243).
И затем, Лужин, осознавший смертельную опасность, спасается бегством. «Я полагаю, - продолжал Валентинов <…> Он вспомнит при этом, что, когда отец бросил его на произвол судьбы, я щедро раскошелился. <…> Лужин рванулся и, мучительно оскалившись, вылез из кресла. Им овладела жажда движений. Играя тростью, щелкая пальцами свободной руки, он вышел в коридор, зашагал наугад, попал в какой-то двор и оттуда на улицу. <…> Жажда движений еще не была утолена. »(245-247).
И точно так же развиваются события у Белого: - Напоминание. Осознание. Ужас. Бегство по «бесконечной» лестнице, домой, на пятый[153], спасительный этаж.
«А Шишнарфнэ продолжал:
— «Помните?»
Дело приняло отвратительный оборот: надо было броситься в бегство немедленно — вверх по каменным лестницам; надо было использовать темноту; а не то фосфорический свет бросит в окна белесоватые пятна. Но Александр Иванович медлил в совершеннейшем ужасе; почему-то особенно его поразила фамилия обыденного посетителя:
— «Шишнарфнэ, Шишнарфнэ… …» <…> Александр Иванович бежал вверх по лестнице. За ним бежал Шишнарфнэ; бесконечная вереница ступеней уводила их, казалось, не к пятому этажу: конца лестницы не предвиделось; и сбежать было нельзя»[154].
Шишнарфнэ настигает Александра Ивановича. В комнатке на пятом этаже происходит странный полубредовый разговор. В ходе которого, намечается еще несколько ассоциативных связей этой сцены с романом Набокова. Проявляются сопутствующие психическому расстройству признаки Déjà vu, столь основательно разработанные в истории Лужина.
«Александр Иванович быстро сообразил, что гость его лжет; и притом пренахальнейшим образом, ибо та же история повторилась когда-то (где и когда – этого он не мог сейчас осознать: – встало)»[155]
В этой бредовой «беседе» Шишнарфнэ с Александром Ивановичем, да и во всем романе, следует обратить внимание на инфернальные смыслы географически-геометрической игры А. Белого с пространственными измерениями. Двумерное, плоское противопоставляется объемному, трехмерному. Трехмерное оказывается чреватым, и порой раскрывается в таинственное, инфернальное четвертое измерение. Так же как и обратно превращается в двумерную плоскость или сжимается в точку, не имеющую измерений. С первых строк романа начинает звучать аллегорически-геометрическая тема разности и единства многих измерений. «Петербург не только нам кажется, но и оказывается — на картах: — есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр»[156]. Эта вступительная геометрическая аллегория потустороннего проявляет свою инфернальную сущность, повторяясь позднее в словах «Шишнарфнэ-Енфраншиша», воображаемого участника бредового диалога, происходящего в голове Александра Ивановича: «Петербург имеет не три измеренья – четыре; четвертое – подчинено неизвестности и на картах не отмечено вовсе, разве что точкою, ибо точка есть место касания плоскости этого бытия к шаровой поверхности громадного астрального космоса; так любая точка петербургских пространств во мгновение ока способна выкинуть жителя этого измерения, от которого не спасает стена; так минуту пред тем я был там – в точках, находящихся на подоконнике, а теперь появился я…»[157]
«мира невидимого», мира четвертого измерения, вдруг, обретая объемную плотность подозрительного субъекта «в котелочке», превращается в сознании полубезумного Дудкина Александра Ивановича в двумерную плоскость, в контур на стене, в золу и, наконец, исчезает в звуке.
««Вы страдаете галлюцинацией — относительно их выскажется не пристав, а психиатр… Словом, жалобы ваши, обращенные в видимый мир, останутся без последствий, как вообще всякие жалобы: ведь в видимом мире мы, признаться сказать, не живем… Трагедия нашего положения в том, что мы все-таки — в мире невидимом, словом, жалобы в видимый мир останутся без последствий; и, стало быть, остается вам подать почтительно просьбу в мир теней».
– «А есть и такой?» – с вызовом выкрикнул Александр Ивановичстановившегося все субтильней: в эту комнату вошел плотный молодой человек, имеющий три измерения; прислонившись к окну, он стал просто контуром (и вдобавок – двухмерным); далее: стал он тонкою слойкою черной копоти, наподобие той, которая выбивает из лампы, если лампа плохо обрезана; а теперь эта черная оконная копоть, образующая человеческий контур, вся как-то серая, истлевала в блещущую луною золу; и уже зола отлетала: контур весь покрылся зелеными пятнами – просветами в пространства луны; словом: . Явное дело – здесь имело место разложение самой материи; материя эта превратилась вся, без остатка, в звуковую субстанцию, оглушительно трещавшую – только вот где? Александру Ивановичу казалось, что трещала она – в нем самом»[158].
Вспомним соответствующую геометрическую игру с измерениями, обширно и многообразно представленную в набоковском романе. Где плоскому двумерному, черно-белому миру шахмат противопоставлен яркий многоцветный мир трех и более измерений. Где геометрические задачи в невообразимых небесах иных измерений (рожденных лишь детской вольностью) чудесным образом нарушают все железные законы. Где происходят «немыслимые катастрофы, неизъяснимое чудо, <…> где сходят с ума земные линии»(113)[159]. И видимо с этой беловской инфернальностью такой вот, геометрической географии связано сопутствующее вовлечению маленького Лужина в мир шахмат анаграмматическое единство-преемственность его «опекунов»: «хищный математик», географ Валентин Иванович – Валентинов.
В контексте этой географо-геометрической темы также обратим внимание на «расквадрачивание» земной поверхности в сознании Аполлон Аполлоновича, перекликающееся с шахматно-аллегорическим восприятием мира Лужиным, с его любовью к геометрическим фигурам. «И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя
После линии всех симметричностей успокаивала его фигура - квадрат.
Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса.
»[160].
Отметим и выписанную в унисон пространственному превращению-исчезновению незнакомца в каморке Александра Ивановича Дудкина сцену, где Лужин после незавершенной игры с Турати теряет сознание, а по сути - где окончательно умирает это странное, несостоявшееся существо трехмерного мира – человек Лужин, шахматист Лужин, чтобы превратиться, «воскреснуть», во второй половине романа, на плоской шахматной доске, уже в виде шахматной фигуры. Когда «он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался и потом беззвучно рассеялся»(180). В порошок на асфальте («Пульвермахер», которого подберут с асфальта добродушные, пьяные немцы).
«. Понемногу исчезли огни, редели призраки, и волна тяжкой черноты поминутно его заливала. <…> Он потянулся к решетке, но тут торжествующая боль стала одолевать его, давила, давила сверху на темя, и он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался и потом беззвучно рассеялся»(180).
И из последних сил, стремясь избавиться, спастись от этого наваждения Александр Иванович Дудкин прибегает к заклинанию, которое, впрочем, тут же оборачивается против него.
«И в припадке невольного страха он силился выкрикнуть:
– «Енфраншиш».
Из глубин же его самого, начинаясь у сердца, но чрез посредство собственного аппарата гортани ответило:
«Ты позвал меня… Ну – и вот я…»
Енфраншиш само теперь пришло за душой»[161].
«Обезьяньим прыжком выскочил Александр Иванович из собственной комнаты: щелкнул ключ; глупый, – нужно было выскочить не из комнаты, а из тела; может быть, комната и была его телом, а он был лишь тенью?
– «Да, да, да… Это – я… Я – гублю без возврата…»[162]
И тут, в этой ситуации безумных попыток Александра Ивановича спастись, избавиться от себя самого, у Белого и у Набокова звучит тема «спасительного окна».
«Но уходить с чердака все же ему не хотелось: осторожно он подходил средь кальсон, полотенец и простынь к заплетенному осеннею паутиной окну и просунул он голову из стекольных осколков: то, что он видел, успокоением и миротворною грустью на него дохнуло теперь.
яснели – отчетливо, ослепительно просто: четкий дворовый квадрат, показавшийся отсюда игрушечным, серебристые сажени осиновых дров, откуда он так недавно глядел в свои окна с неподдельным испугом»[163]
Так же, как в судьбе набоковского Александра Ивановича, окно играет особую роль и для Александра Ивановича Дудкина. Окно – это не просто окно, это знак, это символ, это водораздел между «тут» и «там». Как однажды Дудкин проговаривается Аблеухову младшему: "Здесь-то я пришел к убеждению, что "[164].
И едва только оправился Александр Иванович от наваждения, от приступа мании преследования восточного кошмара, «персидского подданного Шишнарфнэ», как в новом мороке его посещает Медный Всадник. Когда после бредовой беседы с «Шишнарфнэ» он поднимается на чердак к окну, на площади уже что-то происходит.
«Пустовала вся площадь.
В этот час полуночи на скалу упали и звякнули металлические копыта; конь зафыркал ноздрей в раскаленный туман; медное очертание Всадника теперь отделилось от конского крупа, а звенящая шпора нетерпеливо царапнула конский бок, чтобы конь слетел со скалы.
По камням понеслось тяжелозвонкое цоканье через мост: к островам. Пролетел в туман Медный Всадник; у него в глазах была – зеленоватая глубина; мускулы металлических рук – распрямились, напружились; и рванулось медное темя; на булыжники конские обрывались копыта, на стремительных, на ослепительных дугах; конский рот разорвался в оглушительном ржании, напоминающем свистки паровоза; густой пар из ноздрей обдал улицу световым кипятком; встречные кони, фыркая, зашарахались в ужасе; а прохожие в ужасе закрывали глаза»[165].
И возвратившись с чердака в свою каморку «Александр Иванович Дудкин услыхал странный грянувший звук; странный звук грянул снизу; и потом повторился (он стал повторяться) на лестнице: раздавался удар за ударом средь промежутков молчания. Будто кто-то с размаху на камень опрокидывал тяжеловесный, многопудовый металл; и удары металла, дробящие камень, раздавались все выше, раздавались все ближе. Александр Иванович понял, что какой-то громила расшибал внизу лестницу. Он прислушивался, не отворится ль на лестнице дверь, чтобы унять безобразие ночного бродяги? Впрочем, вряд ли бродяга…
И гремел удар за ударом; за ступенью там раздроблялась ступень; и вниз сыпались камни под ударами тяжелого шага: к темно-желтому чердаку, от площадки к площадке, шел упорно наверх металлический кто-то и грозный; на ступень со ступени теперь сотрясающим грохотом падало много тысяч пудов: обсыпались ступени; и — вот уже: с сотрясающим грохотом пролетела у двери площадка.
Раскололась и хряснула дверь: треск стремительный, и — отлетела от петель; меланхолически тусклости проливались оттуда дымными, раззелеными клубами; — от раздробленной двери, с площадки, так что самая чердачная комната открывалась в неизъяснимости, посередине ж дверного порога, из разорванных стен, пропускающих купоросного цвета пространства, наклонивши венчанную, позеленевшую голову, простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором.
Это был — Медный Гость.
Металлический матовый плащ отвисал тяжело — с отливающих блеском плечей и с чешуйчатой брони; плавилась литая губа и дрожала двусмысленно, потому что сызнова теперь повторялися судьбы Евгения; так прошедший век повторился — теперь
— «Я вспомнил… Я ждал тебя…»
Медноглавый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, замыкая кованый круг; протекали четверти века; и вставал на трон — Николай; и вставали на трон — Александры; Александр же Иваныч, тень, без устали одолевал тот же круг, все периоды времени, пробегая по дням, по годам, по минутам, по сырым петербургским проспектам, пробегая — во сне, на яву пробегая… томительно; а вдогонку за ним, а вдогонку за всеми — громыхали удары металла, дробящие жизни: громыхали удары металла — в пустырях и в деревне; громыхали они в городах; громыхали они — по подъездам, площадкам, ступеням полунощных лестниц.
Ты — слышал ли?
Аполлон Аполлонович Аблеухов — удар громыхающего камня; Петербург — удар камня; кариатида подъезда, которая оборвется там, — каменный тот же удар; неизбежны — погони; и — неизбежны удары; на чердаке не укроешься; чердак приготовил Липпанченко; и чердак — западня; проломить ее, проломить — ударами… по Липпанченко!
рассядется надвое.
Все, все, все озарилось теперь, когда через десять десятилетий Медный Гость пожаловал сам и сказал ему гулко:
— «Здравствуй, сынок!» Только три шага: три треска рассевшихся бревен под ногами огромного гостя; металлическим задом своим гулко треснул по стулу из меди литой император; зеленеющий локоть его всею тяжестью меди повалился на дешевенький стол из-под складки плаща, колокольными, гудящими звуками; и рассеянно медленно снял с головы император свои медные лавры; и меднолавровый венок, грохоча, оборвался с чела.
И бряцая, и дзанкая, докрасна раскаленную трубочку повынимала из складок камзола многосотпудовая рука, и указывая глазами на трубочку, подмигнула на трубочку:
— «Petro Primo Catharina Secunda…»
под месяцем.
Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял, что столетие он бежал понапрасну, что за ним громыхали удары без всякого гнева — по деревням, городам, по подъездам, по лестницам; он — прощенный извечно, а все бывшее совокупно с навстречу идущим — только привранные прохожденья мытарств до архангеловой трубы.
И — он пал к ногам Гостя «Учитель!»
В медных впадинах Гостя светилась медная меланхолия; на плечо дружелюбно упала дробящая камни рука и сломала ключицу, раскаляяся докрасна.
— «Ничего: умри, потерпи…»
Металлический Гость, раскалившийся под луной тысячеградусным жаром, теперь сидел перед ним опаляющий, красно-багровый; вот он, весь прокалясь, ослепительно побелел и ; в совершенном бреду Александр Иванович трепетал в многосотпудовом объятии: Медный Всадник металлами пролился в его жилы»[166].
Обращаясь к образам пушкинской поэмы А. Белый переиначивает ее интригу. Как пишет Л. К. Долгополов: «Ее образы вновь возникли, стали жить своей, но уже новой жизнью на страницах романа Андрея Белого. Медный Всадник и Евгений вновь встретились, вновь пересеклись их жизни, но уже не как враги столкнулись они, а как союзники, как проводники одной исторической тенденции. Белый восстанавливает, воссоздает саму коллизию пушкинской поэмы, но он по-своему истолковывает ее. Он переосмысляет ее в соответствии с теми воззрениями на сущность нынешнего исторического периода, которые формировались на рубеже XIX и XX в., хотя действующими лицами оставляет персонажей «Медного всадника», которые и становятся под пером Белого символами его эпохи»[167]. «. Летит по проспектам и линиям Васильевского острова всадник в романе Белого, чтобы сообщить террористу Дудкину, что история человечества зашла в тупик. «Ничего: умри, потерпи...», — говорит он ему странные слова»[168].
Выше мы показали, как в начале века вплотную к «апокалипсическим» темам «второго пришествия» подвел этот символ Медного Всадника Мережковский. И Белый, в этой реконструкции пушкинских образов обращается не только к Пушкину, но и к Мережковскому.
Мы видим, что подобно тому, как в набоковском романе Лужин «превратился» в фигуру шахматного коня, Медный Всадник у Белого так же «вошел в кровь и плоть» Александра Ивановича, «металлами пролился в его жилы».
Это «слияние» «человека» и «всадника» в образе безумного Александра Ивановича, Белый последовательно доводит до абсурдного завершения. Как пишет Долгополов: ««Пролившийся металлом» в жилы Дудкина всадник оживает в нем, заново обретая свою форму, но уже в виде карикатуры и пародии»[169].
«Когда утром вошли, то Липпанченки уже не было, а была — лужа крови; был — труп; и была тут фигурка мужчины — с усмехнувшимся белым лицом, вне себя; у нее были усики; они вздернулись кверху; очень странно: мужчина на мертвеца сел верхом; он сжимал в руке ножницы; руку эту простер он; по его лицу — через нос, по губам - уползало пятно таракана.
Видимо, он рехнулся».[170]
«медный всадник» в лице окончательно сошедшего с ума Александра Ивановича Дудкина, оседлавшего убитого им Липпанченко, приводит этот образ к итоговой точке. Смысло-символическому содержанию его у Мережковского противопоставляется такое вот, предельно карикатурное снижение его у Белого. Отметим этот художественно выразительный прием снижения образа и связанного с этим полемического изменения его смысла. То же самое делает и Набоков, превращая Медного Всадника, поднявшего коня на дыбы, «на краю», «на высоте», «над самой бездной», в фигурку коня шахматного, стоящего у «бездны», на высоте пятого этажа, на краю шахматного поля, в квадрате h5.
«Востока» - «Западу» в символе Медного Всадника, превращается в абсурдное геометрическое расплющивание и рассеяние обитателя четвертого измерения, господина Шишнарфнэ, со стороны «Востока», и в обращение в собственную карикатуру Медного Всадника в образе «рехнувшегося» Александра Ивановича «оседлавшего» труп провокатора, со стороны «Запада». Ни «Восток», ни «Запад» не несут спасения, не решают проблем России, оказавшейся вздернутой «над самой бездной» на дыбы.
И разрешением этого рокового столкновения «Востока» и «Запада», представленных в романе «Петербург», в равно-абсурдных, бредовых видениях Александра Ивановича, в образе «персидского подданного Шишнарфнэ» и «ожившего» Медного Всадника является воззвание А. Белого к Солнцу. «Встань, о Солнце!»
Таким образом, мы видим, что в этом романе А. Белый откликается на призыв Д. Мережковского к поиску, строительству «третьего пути». В тех же самых, разрабатываемых Мережковским, образах-символах (центральным из которых является пушкинский образ Медного Всадника), преображая их, Белый конструирует в художественном теле романа «Петербург» свою концепцию разрешения историософских и религиозных проблем современности.
Отметим, что Набоков, также берется за решение этой задачи в свое третьем романе «Защита Лужина», где в узор решения вплетаются уже и аллюзии к опыту предшественников. То есть не только к ставящему задачу Мережковскому, но и к одному из вариантов её решения в романе Белого «Петербург».
И подобно Мережковскому, говорящему о «третьем пути» как о «втором пришествии» «в стиле и славе»[171]«Петербурга» также обращается, взывает к символу Христа - Солнцу. И в форме прямого, мистического призыва «Встань, о Солнце!», и создавая светлую оппозицию главным героям романа в виде проходного персонажа, аллегорической фигуры одетой в «белое домино»[172]. Как пишет Л. К. Долгополов «Призрак Христа возникает на страницах «Петербурга» как антипод и антагонист Медного всадника. Это единственное светлое явление в романе. Он одет в белое домино (контраст с красным домино Николая Аполлоновича и с черно-серым обликом сенатора). — имея явную связь с всадником Апокалипсиса, он, по мысли автора, заключает в себе идею смерти («медновенчанная Смерть» — так воспринимает его Софья Петровна Лихутина). Христос же выступает в романе традиционным символом жизни, любви и сострадания. Они и возникают на улицах императорского Петербурга в паре - вначале появляется призрак Христа, затем сменяющий его Медный всадник. Так было с Софьей Петровной, возвращающейся с бала в доме Цукатовых: ее встретил и усадил в пролетку кто-то «печальный и длинный», кого она и не признала вначале, а затем ей мерещится, будто ее настигает Медный всадник: «Точно некий металлический конь, звонко цокая в камень, у нее за спиной порастаптывал отлетевшее...». Так было и с Дудкиным, возвратившимся ночью к себе в каморку: его встречает у ворот тот же «печальный и длинный», бросивший на террориста «невыразимый, всевидящий» взгляд, а вслед за тем прямо на чердак к Дудкину является Медный всадник. Между призраком Христа и Медным всадником происходит как бы борьба за души людей, населяющих город; люди тянутся к «печальному и длинному», но находятся во власти Медного всадника. Двойственность их душ и положений здесь полностью проявляет себя. Их внутренние стремления и подсознательные порывы находятся в противоречии с их реальным положением, с той «средой», в которой они пребывают. Обстоятельства их жизни и быта, привычки и ложные убеждения заглушают возвышенные порывы души. Хочет «припасть» к ногам «неизвестного очертании» Софья Петровна; хочет «что-то такое сказать» «печальному и длинному» Александр Иванович, но ни та, ни другой ничего не делают, какая-то сила отвлекает их, заглушает их трепетные желания. Призрак Христа пока проигрывает битву за души людей, населяющих Петербург; «хозяином» города остается на всем протяжении романа мрачный и грозный Медный всадник»[173].
То есть, подобно набоковскому роману, «Петербург» А. Белого существенно апофатичен. Так же как и в «Защите Лужина» здесь проявляются все грани «недолжного», темного. Центральные персонажи обеих романов, «»[174]
К весьма примечательному, в контексте нашего исследования набоковского романа «Защита Лужина», выводу приходит исследователь романа «Петербург», Л. К. Долгополов. Он пишет: «Каждый из героев романа — и «герой» в собственно художественном смысле, и носитель системы символических значений, которые придаются ему автором, вовсе не стремящимся ни к реалистической достоверности, ни хотя бы к логической обоснованности, т. е. ко всему тому, с чем обязан был считаться автор классического романа»[175]. И что «в этом и состоит прежде всего особенность «Петербурга» как символистского романа; »[176].
Эта характеристика в полной мере может быть применена и к творчеству В. Набокова, прошедшего школу А. Белого.
И более того, если Белый облегчает себе задачу «объединения этих двух аспектов» опираясь на идею «о нереальности реального мира», то Набоков конструирует «систему символических значений» в совершенно реалистической манере. «Условность знака», символичность образа предельно скрыты в жизненной его достоверности[177].
Говоря о решении этой задачи в романе «Петербург», Долгополов пишет:
«Объединение этих двух аспектов, которое в иных условиях могло бы показаться невозможным или труднодостижимым, Белым достигается сполна. На помощь ему тут и приходит та общая идея, лежащая в основе его философской концепции, которая вытекает из представлений Белого о нереальности реального мира. Ведь именно эта идея лежит в основе «Петербурга». Она-то и является цементирующим средством, сплавляющим в одно художественное целое разнородные и разностильные элементы романа; она держит на себе роман как единое и завершенное художественное целое, держит эту пирамиду, вбирая в себя, растворяя тот произвол логических и исторических ходов и выходов Белого, которые немедленно обнаружили бы это свое качество, не имей они под собой такого прочного основания. Ведь в нереальном мире, мире теней и праздной мозговой игры, возможно все что угодно»[178].
Тогда как у Набокова на фоне бытового реализма поверхностного сюжета, тема «нереальности реального мира» уходит в подводные течения романа. Она предстает то как характеристика поврежденного, шахматного сознания главного героя, то как легкими штрихами проявляемая условность и субъективность т. н. обыденной реальности вообще. Шахматная «реальность» Лужина, «реальность» его невесты, псевдорусская декоративно-бытовая «реальность» её родителей, близоруко-инвертированная «реальность» Лужина-писателя – это все разные «реальности», самою своей множественностью подрывающие единство и универсальность понятия «реальный мир».
В целом же для построения единого синтеза символического и художественно реалистического в романе, В. Набоков задействует совсем другие механизмы. Предельно скрывая эту «символичность» текста. От стереоскопии скрытого аллегорического узора, до тематического переплетения превращенных, но акцентируемых образов-символов и стоящей за ними в культурном фоне эпохи всей их содержательной полноты.
И далее, так же как и в случае с включением в тематический контекст набоковского романа критических наблюдений Н. М. Демуровой над превращением фигуры шахматного коня в «рыцаря» в повести Л. Кэрролла «Алиса в зазеркалье», снова обратимся к «третьему мнению». Сравним то, что пишет Л. К. Долгополов об одном из композиционно-тематических приемов А. Белого, с тем как этот прием реализован в набоковском романе. Речь идет о «демиургической» способности мысли творить реальность. Мы много писали выше о превращении лужинской шахматной защиты в матрицу его судьбы. Аналогичный прием использует и А. Белый, проявляя его уже на первых страницах романа. В роли одного из своеобразных «демиургов» реальности «Петербурга» выступает Аполлон Аполлонович Аблеухов. ««Мысли сенатора, — пишет Белый, — получали и плоть, и кровь». Из головы сенатора родились, «зашагавши по невским проспектам», и террорист Дудкин («незнакомец с черными усиками»), и собственный сын Николай Аполлонович; и даже желтый сенаторский дом возник изначально в сенаторской голове. Белый пишет: «Получившая автономное бытие мысль о доме стала действительным домом; и вот дом действительно открывается нам»»[179].
Долгополов, характеризуя этот прием, совершенно в унисон лужинской тематике шахматного самопорабощения, пишет: ««шутит» над миром, воображая его себе и заставляя свое воображение материализоваться, но в конечном итоге попадая в полную зависимость от им же порожденных «призраков». Очевидно, в обосновании мысли о трагедии человека, находящегося в полной зависимости от им же «выдуманных» и лишь «овеществленных» условий существования в призрачном, но кажущемся вполне реальными объективным мире, и состояла общая философская задача Белого»[180].
«Его герои полностью ощутили себя во власти сил, которыми управляется движение жизни и которые, согласно Белому, имеют таинственный и непознаваемый характер, ощутили себя втянутыми в водоворот и исторической, и природной жизни»[181].
эта тема реализуется более в плоскости социально-политической философии, тогда как у В. Набокова – она переносится в плоскость сугубо антропологической проблематики. А. Белого занимают исторические судьбы народов, В. Набокова – вневременная, посю- и поту-сторонняя судьба отдельно взятой человеческой личности. Кстати, забегая вперед, скажем, что именно с этим смещением ракурса и связано то снижающее, пародическое превращение рассматриваемых здесь нами литературно-исторических образов-символов в набоковском романе. Например, перенесение в иносказательном подтексте изучаемого нами романа историософского символа Медного Всадника в поле антропологической проблематики, в образе черного шахматного коня.
В общей линии на тематическое снижение «вселенских», историософских и онтологических образов в романе «Защита Лужина» претерпевает трансформацию и идущая от Ницше идея «вечного возвращения». Эта идея нашла место, своеобразно преломившись, и в творчестве А. Белого. Как пишет Долгополов «Движение жизни, если понимать это слово широко (причем, не только исторической, но и доисторической, праисторической, «природновселенской»круговой характер, оно есть сложная система «возвратов», в которой каждое последующее воспроизведение, сохраняя всю видимость самостоятельности, сохраняет вместе с тем и прочную связь со своим праистоком»[182]. «Над миром — миром «природы», миром людей и их судеб, над историей, над отдельным человеческим «я» — тяготеет проклятие времени, проклятие прошлого, некогда бывшего»[183]. Неизбывный цикл повторений. ««Старым» и «новым» одновременно оказываются и лавровенчанный Петр на бронзовом коне и Дудкин верхом на им же убитом Липпанченко. История превращается в «дурную бесконечность» повторяющих друг друга явлений[184].
«с наибольшей отчетливостью получил воплощение в <…> «Третьей симфонии», имеющей символическое заглавие «Возврат»»[185]. В набоковском романе эта ницшеанская идея преобразилась как в комплекс Déjà vu в поврежденном сознании главного героя, на котором основана композиция романа, так и в круговой, повторяющийся узор всей его судьбы. О превращении ницшеанских тем в романе мы будем говорить отдельно. Здесь только отметим их опосредованный, видоизмененный и расширенный характер в русской культуре начала 20-го века.
И в заключение рассмотрения преемственности, диалогичности и полемики, двух этих романов, обратим внимание на тематическое единство трех, равнозначительных в обоих произведениях образов-символов - «ночи», «луны» и «бездны».
Оппозиция дня и ночи осмыслена в рассматриваемых нами романах. Так, Набоков проявил и разработал эту оппозицию уже в первом своем романе «Машенька». Продолжается она и в третьем его романе. Шахматная жизнь Лужина – как правило, жизнь ночная. Вечером, перед сном ему сообщают, «что с понедельника он будет Лужиным»(100), в темноте раннего вечера скрипач посвящает его в таинство шахматной игры, в летнюю полночь открывается его дар, ночью, в освещенной (и освященной) лунным светом комнате рождается Защита Лужина, ночью, после незавершенной партии с Турати окончательно гибнет несостоявшееся «Я» человека Лужина, и в зазеркально-потусторонней жизни Лужина-фигуры, уже даже солнце становится подобным луне. И погибает Лужин, совершая решающий, роковой шаг «из игры» - ночью. Роль солнца в этом ночном мире шахматного наваждения исполняет луна. Мы уже много раз в разных аспектах говорили об этой царственной и обманчивой её роли в романе.
А вот что пишет об этой оппозиции дня и ночи, солнца и луны в романе «Петербург» Долгополов. Снова обратимся к интерпретации романа А. Белого полученной «из третьих рук», от независимого и беспристрастного наблюдателя.
««Петербурге» почти нет; если оно и появляется, то в зловещем облике солнца осеннего, закатного — «огромного и багрового», находящего свое отражение в кроваво-красном цвете Зимнего дворца. Солнце в романе сменила луна - ее мертвенный фосфорический блеск сопровождает нас на протяжении всего повествования. В этой замене светила дневного светилом ночным, льющим таинственный свет из мировых пространств, также сказалась одна из особенностей эволюции поэтики всего русского символизма. Это сошедший на землю «мир луны», точка в пространстве вселенной, которую не могут оживить даже золотые шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости»[186].
«"ночь глубока и глубже, чем думал день", по слову Заратустры, die Nacht ist tief und tiefer, ald der Tag gedacht»[187]
Одним из основных в обоих произведениях является также образ «бездны». С ним связаны главные темы романов. Он был «одной из наиболее излюбленных поэтических фигур Белого»[188].
«В бездну валится отходящий ко сну сенатор Аблеухов (сон дает возможность ощутить всю мнимость его могущества) ; . И оба они ощущают присутствие рядом с собой Сатурна — всемогущего бога времени, пожирающего своих детей - незаметных и ничтожных жителей Земли. По краю бездны ходит в предсмертный час Липпанченко, когда вваливается он всей своей тушей в маленькую спаленку; бездну оставляет за собой поднимающийся к себе на чердак Дудкин — она остается позади в виде свисающей в черный провал лестницы, доламывает, разрушает которую поднимающийся вслед за ним Медный всадник«Взрыв» и «бездна» — два центральных образа-символа художественного творчества Белого в зрелый период, последовательно обозначающих этапы «приобщения» человека к мировой жизни и выхода его за пределы бытовой эмпирики».[189]
Насколько значим этот «образ-символ» для Набокова можно судить по его повторяемости и смысловой насыщенности в романе. У Набокова он предстает в двух своих ипостасях, это и верхняя бездна («бесконечность») и нижняя («пропасть»). С которыми связаны и возможные исходы и преодоления – «взлет» белого, крылатого коня, Пегаса, и «падение» коня черного, шахматного. Вверху - чудо, спасение и свобода; внизу – безысходное повторение, окончательное порабощение. Рай и Ад.
Сравните: «, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии»(113), «белая медвежья шкура, раскинув лапы, словно летя в блестящую пропасть »(164), «шахматные бездны», «он понял ужас шахматных бездн, в которые погружался»(177), «"Звезды", - объяснил Карл, и оба некоторое время неподвижно глядели чудесной бледно-сизой бездне дугообразно текли звезды. "Пульвермахер тоже смотрит"»(181), «поезд на мосту, перекинутом через пропасть», «!», «В темной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившемся, что-то блестело, быть может - лужа на каменной панели вдоль газона и в другом месте то появлялась, то скрывалась тень какой-то решетки. И вдруг все погасло, и была только черная пропасть»(205), «человек с безжизненным лицом в больших американских очках, который на руках повис с карниза небоскреба, - вот-вот сорвется в пропасть»(245), «Она схватила его за плечо, но он не остановился, подошел к окну, отстранил штору, увидел в синей вечерней бездне бегущие огни»(247), «Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, выравнивались отражения окон, распадалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним»(250)
в религиозно-философский символ. Обогащение его тематическими перекличками с произведениями Толстого, Достоевского, Ницше. А затем, в ходе обратного процесса – превращение этого превращенного образа в скрытый, аллегорический, сниженный его инвариант в романе Набокова. И показали, что вместе с этим снижением символа Медного Всадника в аллегорию шахматного коня в новаторской, многоуровневой конструкции романа переосмысляется вся та религиозно-философская проблематика, сконцентрированная в этом символе предшественниками.
Мы увидели, что Набоков не был одинок в этом литературно-философском новаторстве, в поиске необычных художественно-иносказательных средств и способов выражения. Ближайший его учитель и предшественник – А. Белый в своем, столь высоко оцененном Набоковым, романе «Петербург» опирался на те же культурологические символы и также искал новые литературные формы художественно философской их интерпретации.
Вот что писал А. Белый накануне работы над «Петербургом»: «По возвращении в Россию приму все меры, чтобы обезопаситься от наплыва ненужных впечатлений. Перед моим взором теперь созревает план будущих больших литературных работ, которые создадут совсем новую форму литературы»[190].
«новой литературной формы». Именно в этом, в «новой литературной форме», в новых выразительных средствах видится и основная заслуга Набокова. Как мы покажем далее, тот комплекс идей, который был положен в основание набоковского романа, к 30-му году уже, более или менее, оформился в русской эмигрантской философии, хотя был тогда еще достаточно «нов» и оригинален, и, заметим, по сей день, еще не утратил он этой «новизны». Но подлинная заслуга Набокова была именно в создании новой художественно-выразительной, неявно-многоуровневой и многогранной, системно-целостной формы.
Мы рассмотрели сквозь призму проблемы трансформации образа Медного Всадника ту уникальную идейно художественную атмосферу русского символизма, своего рода культурный «питательный раствор», в котором происходило формообразование ранних набоковских произведений, и с точки зрения определения смыслов и как поиск для них новых выразительных средств.
Проявили как внутреннюю эволюцию, пункты тематического зарождения и процесс созревания романа в сознании автора, так и его сокровенные смыслы.
Заметим, что образно-тематическая перекличка романа «Защита Лужина» с текстами русских символистов гораздо более обширна и содержательна, и требует специального рассмотрения. Здесь же мы пока ограничились выявлением истории возникновения, развития и трансформации в набоковском произведении лишь одного (зато самого скрытого, но основополагающего в композиционном узоре романа) образа-символа – Медного Всадника.
© Сакун С. В., 2014 г.
[1] Из предисловия В. Набокова к английскому изданию романа: «Я помню с особой ясностью отлогую плиту скалы, среди поросших остролистом и утесником холмов, где мне впервые явилась основная тема книги»
«I remember with special limpidity , in the ulex- and ilex-clad hills, where the main thematic idea of the book first came to me».
[2] Лихачев Д. С. Принцип историзма в изучении единства содержания формы литературного произведения. — «Русская литература», 1965, № 1, с. 29, Приложение Л. К. Долгополова. Роман А. Белого «Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 637
[3] В. Набоков Лекции по русской литературе. Пер. с англ. Предисловие Ив. Толстого. – М.: Независимая газета, 1996. – 440с. Стр. 189.
[4] Бойд Брайан Владимир Набоков: русские годы: Биография/Пер. с англ. – М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Издательство «Симпозиум», 2001. стр. 181
– М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Издательство «Симпозиум», 2001. стр. 181
[6] «... и Достоевского (этого "глубокого человека"...) - единственного психолога, у которого я чему-нибудь мог научиться...» Ф. Ницше. «Сумерки идолов».
«если людей сближает, роднит не общность происхождения, не совместное жительство или сходство характеров, а одинаковость внутреннего опыта, то Ницше и Достоевский без преувеличения могут быть названы братьями, даже братьями близнецами».
«Достоевский и Ницше» в книге Шестов Л. Избранные сочинения. – М.: Ренессанс, 1993. стр. 176
[7] Эдит Клюс Ницше в России. Революция морального сознания.
"The Revolution of Moral Consciouness"
Nietzsche in Russian Literature, 1890-1914
Публикуется по изданию Гуманитарное агентство "Академический проект", Санкт-Петербург, 1999 год и NORTHEN ILLINOIS UNIVERSITY PRESS, DEKALB, ILLINOIS, 1988
[8] Д. С. Мережковский «Пушкин», в сборнике Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб.: Издательство «Наука», 2007 г. стр. 277
[9] Там же. стр. 280
[11] Там же. Стр. 280
[12] Там же. Стр. 281
[13] Эту сторону вопроса детально разобрал и поставил в укор Д. С. Мережковскому ещё М. О. Меньшиков в статье «Клевета обожания (А. С. Пушкин)». Впервые опубл. Книжки Недели. 1899. № 10. С. 178—213.
Д. С. Мережковский Pro et Contra. Личность и творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология. СПб.: Издательство «Русского Христианского гуманитарного института», 2001 г. стр. 53-81
«Пушкин», в сборнике Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб.: Издательство «Наука», 2007 г. стр. 281
[15] Не к этой ли пушкинской «решетке» одной из сторон рассматриваемого образа в изучаемом нами романе, наряду с её расквадрачивающей пространство света и тени способностью, обращаются набоковские «решетки». «Он потянулся к решетке, но тут торжествующая боль стала одолевать его, давила, давила сверху на темя, и он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался и потом беззвучно рассеялся»(180) «На панели, у решетки палисадника лежал согнувшись толстый человек без шляпы»(181) «и в другом месте то появлялась, то скрывалась тень какой-то решетки. И вдруг все погасло, и была только черная пропасть»(205).
[16] Там же. Стр. 282
[17] Там же. Стр. 282
[18] Там же. Стр. 282-283
[20] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 219
[21] Как пишет Л. Шестов, становясь на сторону Л. Толстого в критической рецензии на книгу Д. Мережковского: «Что же касается Наполеонов, то в обоих случаях их деятельность — только возвышенное комедианство и кривлянье, которое с таким неподражаемым искусством изображено в «Войне и мире» гр. Толстым» Л. Шестов. Власть идей (Д. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. т. II) Впервые: Мир искусства. 1903. №1-2. стр. 77-96
Д. С. Мережковский Pro et Contra. Личность и творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология. СПб.: Издательство «Русского Христианского гуманитарного института», 2001 г. стр. 119
[22] Наполеон в изгнании. 6-24 декабря 1919, Лондон в сб.: Набоков В. В. Стихотворения и поэмы – М.: Современник, 1991. стр. 95
«очеловечивания» героя. Но в отличии от образа Наполеона, жалкого тщеславца, Петр изображен в романтически привлекательном виде творца-созидателя, под маской плотника скрывающего свое царское происхождение.
[23] («...невежественный, потому что он очень мало читал и почти всегда с поспешностью»... - Тэн (1,1). Тэн цит. по: Remusaî C. -E. G. de. Mémoires. T. 1. P. 101). Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 228
[24] Там же. стр. 230
"как на существо единственное в мире, созданное, чтобы властвовать". -
Metternich. Mémoires, documents et écrits divers. P., 1880. T. 1.
[26] Там же. стр. 561. прим. 49 "Уменя... нет честолюбия"... "воздух, которым я дышу". - Тэн (2, III).
[27] Там же. стр. 562. прим. 50 "Я имею право на все ваши жалобы возражать вечным Я... я не принимаю
ничьих условий**. - Эти слова Наполеон сказал Жозефине в ответ на упреки в его неверности.
émoires. T. 2. P. 112.
[28] Там же. стр. 562. прим. 51 "Я не такой человек, как все, и законы нравственности или общественных условий не могут для меня иметь значения'*. - Las Cases E. Le mémorial de Sainte-Helene. T. 3., P. 357.
[29] Там же. стр. 231
[30] Там же. стр. 231-232
[31] «Из ядущего вышло ядомое и из крепкого вышло сладкое». - Суд. 14: 14. В современных переводах Библии он еще звучит как «из ядущаго вышло ядомое, и из сильнаго вышло сладкое»
– М.: «Наука», 2000 г. Стр. 232-233
[33] Мережковский Д. С. Наполеон Человек (главы из книги). в журн. «Современные записки» №34, стр. 226; №35, стр. 243
[34] эпиграф к пушкинскому роману: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность»» Пушкин А. С. Собр. соч. в 6-ти т. – М.: «Огонек». Изд. «Правда», 1969 г. стр. 268
[35]Там же. стр. 289
[36] Н. Набоков. Багаж. "Звезда", №10, 1998 г.
«Стихотворение было очень популярным в эстрадном и любительском декламационном репертуаре. <…> «Сумасшедшего» любил читать молодой Блок (в оглавлении тома из его библиотеки заглавие стихотворения подчеркнуто). В письме к А. В. Гипиусу 25 июля 1901 г. Блок писал: «Придется играть <…> сумасшедшего – костюме и с Машей». (Собр. Соч., т. 8 М., 1963, с. 17) Отрывок «Да, васильки, васильки…» получил широкое распространение как городской романс».
[38] P. 129 «А вот это вы знаете? <…> Из Апухтина, одного из новых поэтов … немного декадентское … что-то о желтых и красных васильках»
[39] Апухтин А. Н. Сочинения: Стихотворения; Проза. – М.: Худож. Лит., 1985., стр. 221
Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме!
Для этого меня безумным вы признали…
Так я вам докажу, что я в своем уме:
Ты мне жена, а ты – ты брат ее… Что взяли?
Там же. Стр. 222
[41] Примером подобной «хитрости» и переменчивости настроения душевнобольного Лужина в романе укажем незамеченную сразу женой Лужина «его деревянную веселость в перерывах хмурости» (224).
[42] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 259
[43] Там же. Стр. 259
[45] В этом «сновидческом» контексте занимательна набоковская пародия «встречи» Медного всадника сниженного в аллегорический образ Лужина-шахматного коня со «степным богатырем» с картины в сновидчески-русофильской квартире невесты. «И было много картин на стенах, – опять бабы в цветных платках, золотой богатырь на белом битюге»(164). Отметьте также и осмысленную шахматно-черно-белую оппозицию в этой пародийной встрече. Кстати, к образно-тематическому наследию символизма обращена и первая, упомянутая в этой сцене картина, «Баба в кумачовом платке». И с таким же, предельно скрытым, но обширным символистским тематическим подтекстом. «А над дверью, сразу над косяком, била в глаза большая, яркая, масляными красками писанная картина. Лужин, обыкновенно не примечавший таких вещей, обратил на нее внимание, потому что электрический свет жирно ее обливал, и краски поразили его, как солнечный удар. Баба в кумачовом платке до бровей ела яблоко, и ее черная тень на заборе ела яблоко побольше. «Баба», – вкусно сказал Лужин и рассмеялся»(164). Здесь эта картина, с одной стороны, продолжая композиционную повторяемость образов, напоминает нам о той девочке в первой главе романа, на железнодорожной платформе, что сидела «на огромном тюке, <…> и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко»(103). А с другой стороны, обращается к зловещему метафизическому подтексту символа, в котором «Рыцарю смерти» противостоит «жизнь, бабища дебелая и румяная» - символа введенного в оборот Ф. Сологубом в рассказе «Плененная смерть» и часто затем повторявшегося и переосмыслявшегося и в произведениях самого Сологуба и в посвященных ему критических текстах А. Белого, Л. Шестова, Иванова-Разумника, жены Ф. Сологуба А. Н. Чеботаревской, В. Ходасевича и др.
[46] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 260
[48] Там же. Стр. 165
[49] Высказывание Достоевского из письма студентам Московского университета от 18 апреля 1878 г., Петербург.
[50] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 166
[51] Там же. стр. 166
[53] Там же. стр. 10
[54] Там же. стр. 10
[55] Мережковский Больная Россия.
[56] Мережковский Д. С. ПСС в 24 т. – М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина. 1914 г. т. 1 Предисловие. Стр. 6
– М.: «Наука», 2000 г. Стр. 10
[58] Там же. Стр. 10
[59] Там же. Стр. 180
[60] Вот как этот образ «всечеловеческого "муравейника"» был использован и конкретизирован Набоковым спустя четверть века в эссе «Юбилей»: «Я презираю … ту уродливую тупую идейку, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая из людей делает муравьев, новую разновидность, formica marxi var. lenini (Муравей марксистский, разновидность ленинская (лат.))». Русский период. Собрание сочинений в 5 томах - СПб.: «Симпозиум», 2009. т. 2, стр. 645-646
– М.: «Наука», 2000 г. Стр. 180-181
[62] Интервью из сборника «Strong Opinions» в книге “Владимир Набоков PRO ET CONTRA”. - СПб.: РХГИ, 1997 г. Стр. 146
[63] http: //imwerden.de/pdf/ivanov-razumnikosmyslezhizni.pdf
[64] Иванов-Разумник Р. В. «О смысле жизни». Изд. «Скифы». Берлин. 1920 г. стр. 25-28
«Русские философы ХХ века»). т. 2. Стр. 389
[66] Там же. Стр. 389
[67] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 165
[68] Блок. 30. Андрею Белому. 3 января 1903. Петербург. Блок А. А. Собр. соч в 9 т., 8 т.
[69] Набоков В. В. Стихотворения. – СПб.: Новая библиотека поэта. 2002 г. Стр. 294-295
[71] Бойд Брайан Владимир Набоков: русские годы: Биография/Пер. с англ. – М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Издательство «Симпозиум», 2001. стр. 340
[72] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 29
[73] Окна спальни и ванной выходят на одну сторону и соседствуют друг с другом. См. план-схему лужинской берлинской квартиры. «Оттуда, из этой холодной тьмы, донесся голос жены, тихо сказал: "Лужин, Лужин". Он вспомнил, что подальше, полевее, находится окно спальни, из него-то и высунулся этот шепот»(250).
[74] Набоков В. В. Стихотворения. – СПб.: Новая библиотека поэта. 2002 г. Стр. 259
[76] «Вариации на тему «Медного всадника»» 28 октября 1923 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1974 г., т. 3 стр. 188
[77] Там же т. 2, стр. 186
[78]Там же. т. 2, стр. 187
[79] Стансы о коне
игрой малиновых лучей,
условный выгиб окрыленных
наполеоновых коней.
И цирковое полнолунье,
сосредоточенной плясуньи;
песок, и музыка, и пот.
И всадник, по лесу спешащий,
седла поскрипыванье, хруст,
по голенищу влажный куст.
И ты, лирическое имя
в газете уличной, скакун,
гнедым огнем летящий мимо
И столь покорный конь манежный,
и фальконетов конь живой.
Но самый жалостный и нежный,
невыносимый образ твой:
не чующий моей любви,
и без конца щекочут мухи
ресницы длинные твои.
26 ноября 1928.
– СПб.: Новая библиотека поэта. 2002 г. Стр. 346
[80] Рецензия на стихотворение Бальмонта «Придорожные травы» 1921 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1974 г., т. 6 стр. 490
Синтетика поэзии 1924 г. Там же. т. 6, стр. 557
[81] Медный всадник 1909 г. Там же. т. 7, стр. 30
[82] Отметим «неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля»(100), «большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчовой попоной»(114).
«Придорожные травы» 1921 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1974 г., т. 6 стр. 491
[84] В котором, продолжая пушкинскую тему в романе, мы можем узнать парафраз двух распространенных восклицания-рекций на итог трагической дуэли А. Пушкина. «Бедный Пушкин!» - возглас жены Пушкина у смертного одра, « Бедный, бедный Пушкин…» - восклицание жены профессора литературы Александра Никитенко, встретившей сани с гробом поэта. И подобные же причитания несколько иного рода. Из писем императрицы Александры Федоровны к С. А. Бобринской от 30 января 1837 г.: «Бедный Жорж, как он должен был страдать, узнав, что его противник испустил последний вздох. После этого, как ужасный контраст, я должна вам говорить о танцевальном утре, которое я устраиваю завтра». И от 21 июля 1838 г.: «Я вспоминаю бедного Дантеса, ».
[85] Аббат Бузони – одно из вымышленных имен Дантеса, одна из его личин, священный сан присвоенный здесь Дантесом оттеняет его намерение заместить собою провидение на земле, стать его десницей.
[86] «А как зовут этого миллионера?
— Аббат Фариа.
— — сказал инспектор.
— Да, он здесь. Отоприте, Антуан.
Сторож повиновался, и инспектор с любопытством заглянул в подземелье «сумасшедшего аббата»». Гл. 14 Арестант помешанный и арестант неистовый.
[87] Медный всадник 1909 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1975 г., т. 7, стр. 31
[88] Там же. стр. 37
[89] Там же. стр. 38
кстати, в примечании к этому четверостишью, В. Брюсов проявляет противоположную двойственность этого образа, отразившуюся как в различных его прочтениях, так и во внутренней его амбивалентности. Он указывает на две его интерпретации. Одно понимание, к которому склоняется и сам В. Брюсов: «Россия, стремительно несясь вперед по неверному пути, готова была рухнуть в бездну. Ее «седок», Петр, вовремя, над самой бездной, поднял ее на дыбы и тем спас. Таким образом, в этих стихах мы видим оправдание Петра и его дела. Другое понимание этих стихов, толкующее мысль Пушкина как упрек Петру, который так поднял на дыбы Россию, что ей осталось «опустить копыта» только в бездне,— кажется нам произвольным. Отметим кстати, что во всех подлинных рукописях читается «поднял на дыбы», а не «вздернул на дыбы» (как до сих пор печаталось и печатается во всех изданиях)». Весьма ценное наблюдение здесь соседствует с линейным, «черно-белым» выводом. Представляется, что история оказалась мудрее, а художественный образ более емким и сложным, вместив в себя в напряженно-противоречивом единстве обе эти интерпретации.
[91] Там же. стр. 43
[92] Там же. стр. 45
[93] Там же. стр. 46
[94] «К счастью, . Его природная осторожность, его умение видеть комбинацию и его инстинкт самообороны подсказывают ему, что в его судьбу вмешалась какая-то зловещая сила и что он должен подготовить контратаку.<…> Вынужденная повторяться вопреки собственной природе, вместо того чтобы идти вперед, жизнь начинает весьма ловко проигрывать прошлое». Бойд Брайан Владимир Набоков: русские годы: Биография/Пер. с англ. – М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Издательство «Симпозиум», 2001. стр. 386
[95] Медный всадник 1909 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1975 г., т. 7, стр. 47-48
[96] Там же. стр. 48
[97] Там же. стр. 48-49
«Я помню с особой ясностью отлогую плиту скалы, среди поросших остролистом и утесником холмов, где мне впервые явилась основная тема книги». Из предисловия В. Набокова к английскому изданию романа.
[99] Набоков В. В. Американский период. Собрание сочинений в 5 томах. – СПб.: «Симпозиум», 1999. (т. 5) Память, говори (пер. С. Ильина). стр. 518
[100] Набоков В. В. Другие Берега: Сборник. – М.: Кн. палата, 1989. стр. 38 (фраза «какая чушь» в других изданиях, начиная с огоньковскoго выглядит как «какая сушь»)
культуры. 1923 г. стр. 75
[102] Там же, стр. 45-46
[103] Поэма написана в конце 1829 — начале 1830 г. Впервые напечатана в „Современнике“, т. VII, 1837 г., под заглавием „Галуб“, данным Жуковским, неправильно прочитавшим в рукописи имя Гасуба, отца Тазита. Это чтение впервые исправлено С. М. Бонди в собрании соч. Пушкина, прилож. к журналу „Красная Нива“ 1930—1931 г., т. III.
[104] Медный всадник 1909 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1975 г., т. 7, стр. 48-49
[105] Эфрос А. Рисунки поэта. [М.], 1933, с. 293, 423.
«Медный Всадник» А. С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения, в издании А. С. Пушкин Медный Всадник. – Ленинград: Изд. «Наука». 1978 г. стр. 182
[107] Медный всадник 1909 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1975 г., т. 7, стр. 48-49
[108] Три шахматные задачи из сборника «Poems and Problems» в книге Владимир Набоков PRO ET CONTRA”. - СПб.: РХГИ, 1997 стр. 172
[109] Беседа В. Набокова с Пьером Домергом. В журн. Звезда №11, 1996. стр. 60
[110] Синтетика поэзии. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1975 г., т. 6, стр. 557-558
[112] Там же. стр. 566
[113] Там же. стр. 566
[114] Беседа В. Набокова с Пьером Домергом. В журн. Звезда №11, 1996. стр. 60
[115] Набоков В. В. Рассказы. Воспоминания /сост., подгот. Текстов, предисловие А. С. Мулярчика, коммент. В. Л Шохиной./ - М.: Современник, 1991г. стр. 611-613.
«Русские философы ХХ века»). т. 2 стр. 11
[117] О хороших читателях и хороших писателях. в кн. Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе /Пер. с англ. Под ред. Харитонова В. А.; предисловие к русскому изданию Битова А. Г. – М.: Издательство Независимая Газета, 1998. стр. 25
[118] ст. Астральный роман. в кн. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства. В 2-х т. М.: Искусство, 1994. (Серия «Русские философы ХХ века»). т. 2 стр. 442
[119] Бойд Брайан Владимир Набоков: русские годы: Биография/Пер. с англ. – М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Издательство «Симпозиум», 2001. стр. 180
[120] Там же. стр. 180
[122] Эдит Клюс Ницше в России. Революция морального сознания.
Edith W. Clowes "The Revolution of Moral Consciouness" Nietzsche in Russian Literature, 1890-1914
Публикуется по изданию Гуманитарное агентство "Академический проект", Санкт-Петербург, 1999 год и NORTHEN ILLINOIS UNIVERSITY PRESS, DEKALB, ILLINOIS, 1988
Перевод с английского Л. В. Харченко, Редактор Л. Д. Микитич
«Русские философы ХХ века»). т. 2 стр. 445
[124] Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 5
[125] Там же. стр. 292
[126] Там же. стр. 241
[127] Там же. стр. 305-306
[129] ... "вся Россия стоит... колеблясь над бездною". – из письма Ф. Достоевского
студентам Московского университета от 18 апреля 1878 г., Петербург.
[130] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 11
[131] Отметим здесь противопоставление А. Белым «водной», нижней и «воздушной», верхней стихий. Это противопоставление символов получило продолжение в долгой и многогранной традиции в набоковских текстах, где с образом «воды» связана тема смерти и потустороннего. «Журчание» воды в «Соглядатае», капающий кран в «Пильграме», Вода-смерть в романе Король, дама, валет», образы моря, волн в последней книге Себастьяна, обманчивое видение Себастьяном матери, «которая медленно всходила по ступенькам, тающим, казалось, в воде»; разгуливающий по поверхности воды чудак в потустороннем вступлении в «Просвечивающихся предметах», «водное» заблуждение умирающего Чернышевского, роман Себастьяна «Асфодель », (на том берегу Стикса?) или предсмертные слова двоюродной бабки В. Набокова, Прасковьи Николаевны – «Теперь понимаю: все – вода».
[132] Снова вспомним выше рассмотренные воздушные отлетающие миражи, видения Петербурга в стихах молодого В. Набокова
– М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 99
[134] Отметим наследование этого, ранее отмечавшегося нами символа, Солнце – Бог, Христос в юношеских стихах Набокова.
[135] Игорь Сухих. Вступительное слово. А. Белый «Петербург»
[136] Там же. Стр. 305-307
[137] Стихотворение «Петербург». июнь 1922 г. В сб. Набоков В. В. Стихотворения. – СПб.: Новая библиотека поэта. 2002 г. Стр. 250
— Столичное утро, 1907, 18
октября, № 117.
[139] Приложение Л. К. Долгополова. «Роман А. Белого «Петербург»» в кн.
Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 586
[140] Там же. стр. 587
– М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 88
[142] Там же. стр. 299
[143] Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. – М.: Согласие, 1997. – 744 с. Стр. 55
[144] Там же. Стр. 55
[145] Приложение. Л. К. Долгополов. Роман А. Белого «Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 541
– М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 302
[147] Там же. стр. 299
[148] «Вы, господин Шишнарфнэ», — говорил Александр Иванович, обращаясь к пространству (Шишнарфнэ-то ведь уже не было), - «может быть являетесь паспортистом потустороннего мира?» Там же. стр. 297
[149] Там же. стр. 288-290
[150] Там же. стр. 290-291
— Столичное утро, 1907, 18
октября, № 117.
[152] Инфернальный отголосок этой сцены в повести Н. В. Гоголя «Вий»: «Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. „Приведите Вия! ступайте за Вием!“ раздались слова мертвеца. <…> и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. <…>
„Подымите мне веки: не вижу!“ сказал подземным голосом Вий — и всё сонмище кинулось подымать ему веки. „Не гляди!“ шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он, и глянул.
„Вот он!“ закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа».
[153] Примечательно, что и Пушкин намеревался поселить своего Евгения на пятый этаж «под кровлей»: «жилище своего героя Пушкин стал определять, как «канурка пятого жилья», «чердак», «чулан» или словами: «Живет под кровлей»».
Медный всадник 1909 г. Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. – М.: Художественная литература. 1975 г., т. 7, стр. 41
– М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 293
[155] Там же. стр. 291
[156] Там же. стр. 10
[157] Там же. стр. 298
[158] Там же. стр. 297
«Защита Лужина» рассматривает в своей статье Литландия: аллегорическая поэтика «Защиты Лужина». Эрик Найман.
Там же он рассматривает и набоковские аллюзии к роману А. Белого «Петербург». В этой статье многие детали подмечены верно, но многое в ней вызывает и возражения, которые помещены в отдельный текст.
[160] Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 21
[161] Там же. стр. 299
[162] Там же. стр. 299
[164] Там же. Стр. 91
[165] Там же. Стр. 301
[166] Там же. Стр. 305-307
[167] Приложение. Л. К. Долгополов. Роман А. Белого «Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 529
[169] Там же. Стр. 603
[170] Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 386
[171] Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 181
[172] Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 172
«Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 622
[174] Интервью из сборника «Strong Opinions» в книге “Владимир Набоков PRO ET CONTRA”. - СПб.: РХГИ, 1997 г. Стр. 146
[175] Приложение. Л. К. Долгополов. Роман А. Белого «Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 550
[176] Там же. Стр. 550
[177] В. Набоков вполне мог считать своеобразным комплиментом т. н. уничижительно «разгромные» высказывания наивных, неискушенных современников, заявлявших, что «в «Короле, даме, валете» старательно скопирован средний немецкий образец. В «Защите Лужина» - французский. Это очевидно, это – едва перелистаешь книги». И что «по-французски и по-немецки так пишут почти все», что ««Защита Лужина» могла бы появиться слово в слово в «Nouvelle Revue Francaise» и пройти там, никем не замеченной, в сером ряду таких же, как она, «средних» произведений текущей французской беллетристики»*. Особенно в этой высокомерно снисходительной «рецензии» замечательно: «едва перелистаешь книги»! Удивительно только то, что эти и подобного рода «рецензии» на правах «научного литературоведения» продолжают тиражироваться в современном набоковедении.
* Г. Иванов В. Сирин. «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Возвращение Чорба».
- журн. Числа. 1930. № 1 (март). С. 233–236
- В. В. Набоков: Pro et contra / Сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина. – СПб.: РХГИ, 1997 г. стр. 215
–М., 2000. – 688 с
[178] Приложение. Л. К. Долгополов. Роман А. Белого «Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 550
[179] Там же. Стр. 571
[180] Там же. Стр. 571
[181] Там же. Стр. 586
«Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 532
[183] Там же. Стр. 533
[184] Там же. Стр. 604
[185] Там же. Стр. 532
[186]Приложение. Л. К. Долгополов. Роман А. Белого «Петербург» в кн. Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. Стр. 618-619
Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. – М.: «Наука», 2000 г. Стр. 445
[188] Приложение Л. К. Долгополова. «Роман А. Белого «Петербург»» в кн.
Белый А. Петербург – М.: изд. «Наука», 1981 г. стр. 606
[189] Там же. Стр. 606-607
Там же. стр. 534