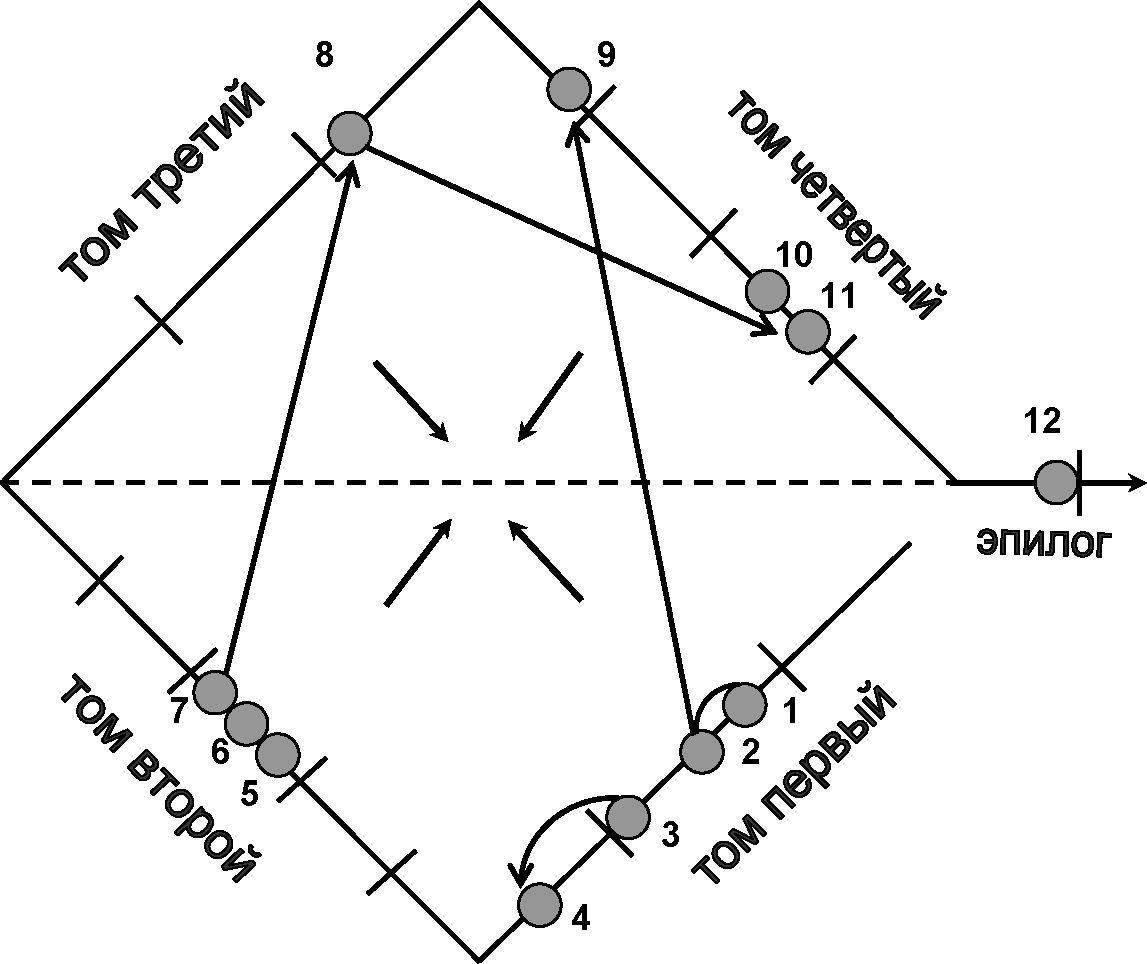
Глава третья. Онейрическое в трех романах Льва Толстого
Сновидения ведь это - моменты пробуждения. В эти моменты мы видим жизнь вне времени, видим соединенным в одно то, что разбито по времени; видим сущность своей жизни: - степень своего роста.
Л. Толстой
Большим искусством в описании снов владел
Л.Н. Толстой, наблюдавший в жизни что самому
снилось, и подметивший закон «беззакония» снов.
А. Ремизов
3.1. Онейропоэтика и философия сновидений в романе «война и мир»
3.1.1. Разграничение сна и сновидения в романе. В романе можно выделить четыре сквозных, параллельных и как бы спонтанно развивающихся повествовательных слоя: 1) изображение мирной жизни, 2) изображение войны, 3) авторские философские рассуждения и 4) яркие сновидения героев. Онейрические эпизода занимают значительно меньше места в общем объеме текста, но их роль в архитектонике произведения значительна.
В 1851 году, работая над повестью «Детство», Л.Толстой задумывает рассказ «История вчерашнего дня», который остается незавершенным. Но в текст рассказа входил фрагмент, который посвящен размышлениям о сне: «Сон есть такое положение человека, в котором он совершенно теряет сознание; но так как засыпает человек постепенно, то теряет он сознание тоже постепенно». Далее автор разграничивает три сознания, из которых «сознание ума» он называет высшим - оно засыпает первым; за ним засыпает «сознание чувства»; «сознание тела засыпает последнее и редко совершенно» [1; 12, 413].
Видимо, совершенно не случайно первое опубликованное произведение Толстого начинается с пробуждения Николень- ки Иртеньева от сна, описания досады и раздражения, которое он испытывает по отношению к разбудившему его Карлу Ивановичу. Чтобы объяснить свои неожиданные слезы, Николенька выдумывает страшный, «дурной сон» - «будто maman умерла и ее несут хоронить» (1, 42). Выдуманный сон окажется пророческим. В.И.Порудоминский, указывая на это совпадение, называет «Детство» «повестью о том, как сбывается сон, которого не было» [2, 131]. Так в мире Толстого установится важная для него связь между миром сна и темой смерти.
Но не только эти уроки наследует от первой повести всё последующее творчество Толстого. В главе «Детство» описаны и воссозданы телесные и слуховые ощущения ребенка на границе между сном и явью, когда «сон смыкает глаза». И параллельно в «Истории вчерашнего дня» Толстой почти формульно определяет слагаемые сновидения: «Я засыпал - думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно картинны, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления» (12, 413). В воспроизведении этих процессов засыпания и пробуждения Толстой как «ясновидец плоти», по выражению Д.С.Мережковского, не имеет себе равных в русской классике. Итак, три момента: связь сновидения с темой смерти, чувственная природа онейрических образов и слоистый характер сновидений героев (сочетание снов, состоящих из мыслей; снов, рожденных хаосом чувств; снов, в которых главенствуют телесные, зрительные и слуховые ощущения), - определят всю дальнейшую поэтику сновидений в мире Толстого.
Роман «Война и мир» как высшее гармоническое творение Толстого-художника включает в себя описание сна как естественного бытового и биологического времени человеческого бытия и описания сновидений героев как особенной области пограничного бытия сознания, подсознания и чувств.
Л.Толстой не считает лишним информировать о ночном или дневном сне героев: например, о «дообеденном сне» старика Болконского, который считал, что «после обеда серебряный сон, а до обеда золотой» (3, 276). Толстой не боится сообщить о старческой сонливости Кутузова; пишет «о неудержимом удовлетворении человеческой потребности - сна» (3, 478). Герои его романа порой восклицают: «Не во сне ли все это?»; «Я все время в Петербурге как во сне всех видел» (6, 246;310). Дважды для передачи отвлеченной мысли Толстой использует прием сопоставления жизненного события со сновидением. Так, передавая состояние Наполеона после Бородинского сражения, автор пишет: «Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую компанию <...>, - страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его <...> Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека» (5, 254). Рассуждая об исходе Бородинского сражения, автор использует уже знакомое сравнение: «Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно...» (5, 274). В романе Толстой как бы мельком проговаривает и свое понимание психологии сна: «Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувство, которое руководит ими» (6, 309). Это замечание о правде чувства, проглядывающей через фантасмагорию онейрических образов, можно считать авторской подсказкой при выявлении психологической функции сновидений в романе. Но сновидения героев в романе выполняют и две другие важные для автора функции: философскую и символическую.
При изучении сновидений в романе первостепенное значение имеют суждения самого Толстого, который многие собственные сны вписывал в дневник, а также сопровождал эти записи обширными комментариями. Сновидения становились для него важным средством самонаблюдения над душевной жизнью человека, работой его памяти и сознания. Так, 7 марта 1904 года Толстой записывает в дневнике: «То, что о себе узнаешь во сне, гораздо правдивее, чем то, что о себе думаешь наяву» [3; 55,18]. «Сновидения ведь это - моменты пробуждения. В эти моменты мы видим жизнь вне времени, видим соединенным в одно то, что разбито по времени; видим сущность своей жизни: - степень своего роста» (55,18-19).
Всего в романе двенадцать ярких сновидений, которые принадлежат только пяти героям-мужчинам: Андрею Болконскому (три сна), его сыну Николеньке (один сон), Пьеру Безухову (пять снов), Николаю Ростову (два сна), Пете Ростову (один сон). Эти сновидения распределены по четырем томам, при этом можно сказать, что их идейно-символическое значение к концу романа возрастает.
3.1.2. Сновидения первого тома. В первый том включены четыре сна. Первым помещен сон Андрея Болконского. Этому сну предшествует незначительная победа русской армии на левом берегу Дуная. Андрей отправлен с донесением курьером в Брюнн: «Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастием как будто вновь узнавал, что ничего этого не было и что, напротив, французы бежали» (3, 339-340). После разговора с Билибиным Андрей ложится спать, но яркие образы первого сновидения возвращаются. Этот второй сон начинается так же, как и первый: «Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмитом, и пули весело свистят вокруг него... Он пробудился... «Да, все это было!..» - сказал он, счастливо, детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким, молодым сном» (3, 348). Психологическая значимость этих возвращающихся сновидений, в которых никак не улягутся впечатления боя, состоит в том, что они зримо представляют те честолюбивые чувства и мечты о славе, которые руководят действиями и помыслами князя Болконского до его ранения во время Аустерлицкого сражения. В сюжете первого сна князя возникают эпизоды поражения русских и описание собственной гибели, но, захваченный счастливыми мыслями о славе, Болконский не обращает внимания на эти закодированные предзнаменования.
как бы несколько слоев сновидений: сон-бред, порождаемый телесной болью от раны, переходит в сон-воспоминание и далее в кошмар. «Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, и раненые и нераненые,- это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече». «Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами». «Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.» «Он открыл глаза и поглядел вверх. <...> Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистою шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда!» - думал он» (3, 400401). Память телесных страданий порождает фантастический сновидный сюжет, а котором чувства Николая отворачиваются от жестокой героики войны.
Картины второго сна Николая автор включает в главу перед Аустерлицем, когда выздоровевший после ранения Ростов объезжает линию цепи гусар и старается преодолеть сон, но глаза его все время закрываются, он засыпает. Толстой передает элементы первосония, в котором абсурдно переплетаются звуки, цветовые пятна, русские и французские слова: «... поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. «Должно быть, снег - это пятно; пятно - une tache, - думал Ростов. - Вот тебе и не таш...» <...> «Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка...». «Молодой детский сон непреодолимо клонил его. «Да, бишь, что я думал?.. На ташку, наступить... тупить нас - кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев». <... > «На - ташку, нас - тупить, да, да, да. Это хорошо». - И он опять упал головой на шею лошади» (3, 484485). Это сновидение Ростова тесно связано с сиюминутными впечатлениями жизни, счастливыми воспоминаниями и полно приятных чувственных ощущений. В нем Толстому удается передать поток звуковых и слуховых ассоциаций, порождающих эффект каламбура. Так, обратим внимание на игру слов: «une tache» - пятно; «Наташа» - «ташка» (это гусарская кожаная сумка). «На - ташку, нас - тупить». Одно слово увязывается с другим, потом с третьим. Лексическую игру сопровождают усеченные синтаксические конструкции с повторами, инверсией, стяжением, авторскими тире. Этим Толстой достигает эффекта максимальной достоверности при передаче внутренней речи засыпающего Ростова.
В тексте первой редакции романа между снами Николая Ростова было вставлено еще одно сновидение. В рукописи этот фрагмент имеет заглавие «Сон» [4, 300-301]. Ему предшествует рассказ о поездке с Денисовым к женщинам. Любопытство и удовольствие от свершившегося смешиваются с раскаянием и чувством стыда, которое Ростов прячет от других, но вся эта правда чувств обнажается в картинах сна. Ростов видит себя «победителем», стоящим на «колеблющемся возвышении» перед толпой народа. Его речи, обращенные к «бесконечной», «как море», толпе, рождают «трепет восторга». Он упивается властью, а «возвышение, на котором он стоял, колеблясь, поднимало его выше и выше». «Вдруг сзади он почуял чей-то один свободный взгляд, мгновенно разрушавший всё прежнее очарованье». Далее во сне появляется женский образ, в котором особенно незабываем «спокойный взгляд» - сочетание «кроткой насмешки и любовного сожаления». «Он чувствовал, что не может жить без нее. Дрожащий мрак безжалостно закрыл от него ее образ, и он заплакал во сне о невозможности быть ею» [4, 300]. Николай просыпается, продолжая плакать, а потом в течение дня пытается отогнать «воспоминания об этом сне». Но вечером впечатления от пережитого наяву и в сновидении опять возвращаются под влиянием полученного из дома письма с припиской Сони. В окончательном тексте романа сохранилось только упоминание о пользующемся большим успехом «трактире с женской прислугой» (3, 448), где Ростов недавно отпраздновал производство в корнеты, а само сновидение ушло в сюжетный подтекст и тонкими нитями сцеплений увязано с последующими отношениями Николая Ростова с Соней и княжной Марьей Болконской. Свою власть над толпой Ростов продемонстрирует в Богучарове, обуздывая бунтующих мужиков: «быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе»; «толпа сдвинулась плотнее»; «толпа тотчас же стала расходиться» (5, 169;170;171). А вот первое впечатление Ростова от Болконской: «И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении!» (5, 167). Вольно или невольно эпитет «кроткий» позволит «сцепить» образ княжны с женским образом не вошедшего в окончательный текст романа сновидения. И позже отношение Ростова к жене перекликается с его отношением к той незнакомке в толпе. Если в сновидении Ростов «чувствовал, что не может жить без нее», то в эпилоге Ростов, «сознавал свое ничтожество перед нею в мире духовном» (6, 306). Читая вечернюю молитву, он думает: «Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо» (6, 309). Сравним во сне: «Ей никого не нужно было, и поэтому-то он чувствовал, что не может жить без нее» [4, 300]. Придумывая сон Ростова,
Толстой вживается в этот образ и находит тот женский тип (его Аниму), о котором мечтает импульсивная, но честная душа его персонажа.
Как установлено исследователями (Н.Н.Гусев, Б.М.Эйхен- баум), Л.Толстой, придумывая сон для Николая Ростова, пытался доверить своему персонажу новую редакцию очень дорогого для него текста, записанного в 1857 году и уже использованного в рассказе «Альберт», а в 1863 году посланного И.С.Аксакову под видом чужого произведения [5, 76-77]. В книге «Сокровенный Толстой» Б.И.Бергман называет этот текст стихотворением в прозе и высказывает мнение, что «Сон» с его женским образом интимно связан с зарождением замысла романа «Война и мир» [5, 66]. Б.М.Эйхенбаум называл его «лирическим наброском» [6, 181].
Сон в повести «Альберт» состоит из двух сюжетов. В первом он видит себя играющим на скрипке, которая была сделана из стекла: Альберт «играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо». Далее он слышит звуки колокола, они одновременно оказываются словами и видит женщину, которая уводит его из той залы, где он так чудесно играл. «Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышенье так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидал женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя» (2, 228). В приведенном отрывке Альберт испытывает те же чувства, которые испытывает Николай Ростов, а лучше понять истинное и ложное в себе обоим героям помогает женский образ - Анима, живущая в душах самых дорогих автору персонажей.
В финале сна Альберта к мотивам музыки синтаксически присоединяются четыре важных для мирообраза Толстого понятия: луна, вода, объятия, слезы. «Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы - он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится». Они явно ассоциируются с мотивами поэзии А.Фета (например, в стихотворении: «Сияла ночь. Луной был полон сад...» ), но одновременно предвосхищают важные онейрические образы последующих сновидений персонажей романов Толстого (сон Пети Ростова, последний сон Пьера, сон Николеньки Болконского).
3.1.3. Сновидения второго тома. Второй том романа посвящен мирной жизни в промежутке между военными действиями на территории Европы, заключением мира в Тильзите и началом похода Наполеона на Россию. В начале тома Николай Ростов на время возвращается из армии в Москву, князь Андрей после ранения приезжает в Лысые горы; умирает маленькая княгиня, Пьер вызывает на дуэль Долохова и разъезжается с женой. Из глубокого внутреннего кризиса Пьера выводит сближение с масонами, но постепенно все его прежние сомнения возвращаются.
В третью часть тома Толстой включает страницы из дневника Пьера Безухова с записями трех сновидений, в сюжетах которых представлена борьба страстей, желание духовного очищения и покаяния. Не случайно сюжет первого сна - это рассказ о схватке в темноте с собаками, из которых каждая следующая злее предыдущих; и только один из братьев масонов помогает Пьеру укрыться от них в «прекрасном здании». «Я видел во сне, что иду я в темноте и вдруг окружен собаками, но иду без страха; вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще большая, схватила меня за грудь. Я оторвал эту, но третья, еще большая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее, и чем больше поднимал, тем она становилась больше и тяжелее. И вдруг идет брат А. и, взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После больших усилий я перетащил свое тело так, что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся» (4, 189-190). Сюжет сна построен на аллегорических образах и ситуациях. Идти в темноте, убегать от преследования, по узкой доске и через забор попасть в сад с аллеей, ведущей к зданию-храму - все эти образы пространства связаны с христианской символикой поиска истинного пути. В мифологической картине мира ноги соотносятся с корнями дерева. Ноги символизируют движение, быстроту, будучи воплощением физической силы, они означают и направление действия и само действие. Воплощая энергию движения, ноги одновременно соотносятся с идеей праведного и неправедного пути человека, поэтому символически значимо разграничение правой и левой ноги, как пути праведного или греховного [7, 157-162]. В.Руднев статью «Тема ног в культуре» начинает с анализа этого образа в произведениях Дж.Сэлинджера и пишет о сексуальной, созидательной и деструктивной семантике этого образа в литературе и культуре [8]. В сновидении Пьера обращает на себя внимание церковнославянизм «стегно» - это название «верхней части ноги от таза до колена; бедро» [9]. Собака хватает Пьера «за левое стегно» и тем самым на аллегорическом языке мешает ему идти праведным путем. Пес, собака - амбивалентный анималистический «символ преданности, верности, но, в то же время - ритуальной нечистоты и разврата» [10, 259]. В контексте сна злые собаки являются аллегорией зла, греха и препятствия. Для понимания аллегорического смысла сна важно обратить внимание на то, что описан поединок с тремя собаками: первая хватает за стегно, вторая - бросается на грудь, третья - начинает грызть, то есть добирается до горла. Можно говорить о том, что в кульминации сна использован прием градации. Этот сон Пьер так комментирует: «помоги мне оторвать от себя собак - страстей моих и последнюю из них, совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели» (4, 190).
Во втором сне представлен его разговор с благодетелем (стариком-масоном Баздеевым) в доме Пьера. В сюжете сна важную роль играет мотив омолаживания и превращения старого Баздеева в молодого, и этот молодой ведет себя так, что Пьер стыдится. «Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в моем доме сидит, и я рад очень и желаю его угостить. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодое, и он мне тихо-тихо что-то говорит из ученья ордена, так тихо, что я не могу расслышать» (4, 190). Оборотничество в сновидении означает раздвоение восприятия и неуверенность в том человеке, который раздваивается. Другой сюжет сна связан с перемещением в пространстве дома Пьера из комнаты в спальню, где стоит двойная кровать. Во сне Пьер заводит разговор о том, что он «хотя и живет с женою, по его совету, но не как муж жены своей». Молодой Баздеев его порицает за это. Комментируя этот сон, Пьер добавляет, что получил от Баздеева письмо, в котором тот пишет «об обязанности супружества». Стыд, который испытывает Пьер во сне, свойствен ему и в реальной жизни. В этом отношении сон - зеркальное отражение нравственных блужданий и чувственных желаний Пьера.
Третий сон - опять разговор с Баздеевым в московском доме Пьера и рассматривание с ним легкомысленных картинок- иллюстраций, которые должны представлять «любовные похождения души» (4,191). Обратим внимание, что действие двух снов происходит в доме Пьера, что он неоднократно подчеркивает в пересказе снов: «в моем доме сидит»; «в спальне моей»; «я в Москве, в своем доме, в большой диванной»; «вошел со мной в большой кабинет». Дом в сновидениях - аналог хозяина. К.Юнг, анализируя свои сны, сделал вывод, что образ дома связан с коллективным бессознательным и самостью человека: «Мне было ясно, что дом - это в некотором роде образ души, то есть образ тогдашнего моего сознания» [11, 350]. То, что появление в нем Баздеева сопровождается мотивами оборотничества и превращения, свидетельствует и о раздвоении самого сновидца. Так, в третьем сновидении Баздеев сам обращает внимание хозяина на то, что у него другая внешность. ««Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое?» Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие. И будто я ему говорю: «Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился», и думаю вместе с тем: «Правду ли я сказал?» И вдруг вижу, что он лежит как труп мертвый; потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет...» (4, 191). Метаморфоза живое-мертвое тоже знак раздвоения восприятия и неуверенности сновидца. Отсутствие у омоложенного Баздеева волос на голове означает в христианстве потерю физической и духовной силы, печаль или нравственное падение [12, 53-65]. Так как Пьер видит таким во сне своего благодетеля, то это предвосхищает разочарование Пьера в масонском учении. Книга, которую рассматривает Пьер во сне, - это вариант сюжета сон во сне. В ней сновидец узнает свои сокровенные желания.
В аллегорических образах и сюжетах этих стыдных снов, поверенных своему дневнику, эротические желания не скрыты, а открыты. Для Толстого важнее изобразить не только те желания, которые мучают подсознание Пьера (фрейдистские), а показать, как с ними борются его сознание и его душа. Не случайно комментарий к третьему сну кончается восклицанием: «Господи, помоги мне... Я погибну от своей развратности...» (4, 191).
Сравнение первой редакции романа и окончательного текста убеждает, что за кажущейся спонтанностью и естественностью дневниковых записей Пьера скрыта большая работа Толстого-художника. Во-первых, он рассредоточил текст дневника по нескольким главам; во-вторых, изменил порядок сновидений (сон о собаках был ранее вторым ) и даты, ограничив их ближайшими числами - 3, 7, 9 декабря (в первой редакции сновидения идут под датами 28 ноября, 3 декабря, 26 декабря). В окончательной редакции Толстой, комбинаторно перестраивая сны, компактно связал три сна в целостный триптих, соединил в третьем сне третий и четвертый сны из первой редакции и исключил из этого четвертого сна первой черновой редакции упоминание о Наташе Ростовой. «Кто- то показывает мне большую книгу <...> И будто я знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающую к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть никто другая, как [она, Ростова] меньшая графиня Ростова, и вместе с тем знаю, что это есть изображение Песни песней» [4, 468]. На книжность этого сна Пьера указывает не только названная Песнь Песней, но и угадывающиеся мотивы масонской поэзии, которая неоднократно обращалась к мифу о Купидоне и Психее, связывая его с идеей возрождения души [13].
«Желания и сомнения, бродившие в душе Пьера, - пишет исследовательница З.П.Безрукова, которая называет эти масонские сны «размышлениями», - получили в этих снах оформление, законченность, предстали перед ним самим в более откровенной форме. Во всех этих случаях сны выступают как форма самосознания» [14, 88]. Благодаря этим снам видно, как стихийная чувственная мужская натура Пьера ищет очищения, духовности, тяготится низменным, со стыдом вспоминает о пьянстве, кутежах, бездуховном браке с Элен и сопротивляется возможному внешнему примирению, которое, как известно, не принесет ничего, кроме нового страдания и стыда. Кроме психологической функции, эти аллегорические сны о борьбе страстей в душе человека выполняют и важную философскую функцию стяжения смыслов в общей архитектонике второго тома, который как раз и посвящен заблуждениям страстей и включает ключевые сцены ссор и ревности: Пьер озлоблен и ревнует жену к Долохову, вызывает его на дуэль; позже Долохов, делая предложение Соне и получая отказ, озлоблен на Николая Ростова, обыгрывает его в карты и чуть не доводит до самоубийства; наконец, завершается второй том взрывом ненависти Пьера к «подлой, бессердечной породе» (4, 378) Курагиных и «презрением и злобой» (4, 382) Болконских к Ростовым. Это война страстей в мирном мире людей предвосхищает в тексте романа Толстого войну между государствами.
3.1.4. Сновидение Пьера Безухова в третьем томе.
Кульминацией третьего тома является описание Бородинского сражения и поля битвы, на котором «несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях» (5,272).
коляске. «Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из-под шинели. Все было тихо на дворе. <...> Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо» (5, 303). Перед нами описание первой попытки погрузиться в сон. В этом первосонии доминируют воспоминания и чувство страха. Сравнивая первосоние Пьера и первосония Андрея Болконского из первого тома, можно понять различия мировосприятия и темпераментов двух этих близких Толстому персонажей. Андрей ощущает прилив сил, его веселит пальба ружей и орудий (3, 339; 348). Пьер восхищен мужеством и самообладанием солдат, он называет их «они» и желает слиться с ними. «Солдатом быть, просто солдатом! - думал Пьер, засыпая. - Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими» (5, 303).
Сон начинается с мысленного вопроса, который Пьер задает себе перед сном или во сне, а скорее на границе сна и яви: «Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека?» (5, 304). Сон и представляет собой ответ на этот вопрос. Перед нами сон-идеологема, кризисный сон, во время которого сознание продолжает бодрствовать.
«И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто-то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? - подумал Пьер. - Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из-за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.
Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза. «Рассветает, - подумал Пьер. - Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер» (5, 304).
В картине сновидения пространственно реализована оппозиция «они» и другие (Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов). Пьер видит себя, хочет тоже откликнуться на слова «благодетеля», но просыпается. Толстой, как «ясновидец плоти», увязывает сюжет сновидения с чувственными ощущениями сновидца. Так, голос благодетеля рождается из воспоминаний и сравнивается «с гулом поля сражения» (искажение реального звука в образе сновидения), а стыд в сновидении рожден тактильным ощущением наяву.
Пьеру удается вернуться в прерванное сновидение, но теперь сон состоит уже не из картин, а из мыслей. «Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? - сказал себе Пьер. - Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли - вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! - с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос. - Да, сопрягать надо, пора сопрягать. - Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, - повторил какой-то голос, - запрягать надо, пора запрягать...».
Перед нами яркий случай противопоставления сна и реальности. Пьер не хочет выходить из сновидения: «Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать всё?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено» (5, 305).
Это «сопрягать надо», родившееся в заторможенном сном, еще не проснувшемся сознании Пьера из «запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство» (5, 305), служит хрестоматийным примером того, как Толстой умеет связать сон и явь и передать присущее сновидению обратное течение времени, когда события финала сна как бы предвосхищают момент будущего времени пробуждения в настоящем. В «Истории вчерашнего дня» Толстой так описал свое понимание механизма подобного явления: «В минуту пробуждения мы все те впечатления, которые имели во время засыпания и во время сна (почти никогда человек не спит совершенно), мы приводим к единству под влиянием того впечатления, которое содействовало пробуждению, которое происходит так же, как засыпание: постепенно, начиная с низшей способности до высшей. Эта операция происходит так быстро, что сознать ее слишком трудно, и привыкши к последовательности и к форме времени, в которой проявляется жизнь, мы принимаем эту совокупность впечатлений за воспоминание проведенного времени во сне. Каким образом объяснить то, что вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь, прицеливаетесь, стреляете и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне» (12, 414).
В мире Толстого кризисные сновидения (а именно таким является сон Пьера) - это результат напряженной работы сознания персонажа, а не просто откровения свыше. Мучительные размышления и нравственные поиски Пьера будут продолжены, и только тогда ему приснится продолжение прерванного сна.
3.1.5. Три сновидения четвертого тома. В этом томе три сновидения очень важных для понимания авторской художественной концепции романного мира: предсмертный сон князя Андрея, сон Пети Ростова накануне его гибели, сон Пьера перед освобождением из плена. Каждый из трех персонажей видит сон в знаковый момент своего жизненного пути. Видимо, не случайно темы смерти и свободы связывает Толстой с онейрическими состояниями человека. Рассмотрим эти сновидения в порядке их расположения в композиции тома.
В истории гипнологии есть сновидения, в которых совершается переход человека в некие неизвестные ему при жизни состояния или области мира. Прежде всего к ним относятся сны о смерти и разнообразных путешествиях и превращениях, которые предшествуют или следуют за моментом смерти. В таких снах образы будущего обгоняют настоящее. Именно такой сон снится князю Андрею перед смертью. “Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит всё.<...> Что-то не человеческое - смерть - ломится в дверь, и надо удержать ее». «Но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется. Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся. «Да, это была смерть. Я умер - я проснулся. Да, смерть - пробуждение! » (6, 69-70).
Все комментаторы сна обращают внимание на последнюю фразу в этом сне-размышлении Болконского. Н.С.Лесков писал: «Это не шекспировское «умереть-уснуть», ни диккенсовское «быть восхищенным», ни материалистическое «перейти в небытие» - это тихое и спокойное пробуждение от сна жизни. Глядя таким взглядом на смерть, умирать не страшно» [15, 288]. Д.С.Мережковский указал на то, что философия этого сновидения опирается на опыт телесных ощущений, когда бессилие тела и в яви и во сне освобождает душу: «И здесь, как везде, как всегда у Л.Толстого, не тело следует за душою, а, наоборот, душа за телом: что сначала в теле, то потом в душе.<...> Тело уходит из жизни в нежизнь, опускается в «черную дыру» - и душа влечется за телом; тело тянет душу» [16, 222]. В.Г.Одиноков видит в этом пробуждении - «очищение от «наследственных грехов», полную победу «настоящей жизни» [17, 70]. Зрелый Толстой две страницы дневника посвящает рассуждениям на тему: «жизнь есть сон - сновидение», «смерть есть пробуждение». Он приходит к такому заключению: «Одним сознанием того, что он в этой жизни спит, человек не может разбудить себя от жизни, т.е. умереть, как это бывает при кошмаре (пожалуй, с эти можно сравнить самоубийство); но человек может, как и во сне, понимать, что он спит, и продолжать спать. И в этом главное дело человека. Понимать, что все временное и пространственное - сон, и что настоящее в этом сновидении только то, что вне пространства и времени: разум и любовь» (запись от 12 июля 1904 года. Ясная Поляна) (55, 65). Тем самым Толстой как бы приспосабливает предсмертные откровения, доверенные им Болконскому, к живой жизни.
Для героев романа сон Андрея остался неизвестным, но для читателей романа он представляет откровение самого автора, обращенное к ним.
В.И.Порудоминский указывает на сновидение самого Толстого как на источник сна Болконского [2, 146]. Свой сон Толстой вписал в Записную книжку, проставив дату 11 апреля 1858 года: «Я видел во сне, что в моей темной комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто- то сказал мне: «Поди, притвори», я пошел и хотел отворить сначала, кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописуемый ужас. Я проснулся и был счастлив пробуждением» (48, 75). Обратим внимание, насколько важны в сновидении могут оказаться детали пространственной обстановки, вокруг которых начинает вертеться сновидение - забор, стол, кровать - в снах Пьера или дверь в этом последнем сне Андрея Болконского. Прежде чем говорить о символике двери, укажем на то, что сновидение героя романа Толстого нельзя прочесть по соннику. Во многих сонниках видеть себя умершим расценивается как благополучное предзнаменование. С точки зрения народных верований, дверь рассматривается как аналог ворот: “Большая и высокая дверь предвещает богатство и знатность; открываешь дверь - удача; дверь неожиданно широко распахивается - счастье и выгода». Совершенно иная трактовка символики двери дана у З.Фрейда и его последователей: дверь - женский символ, а также символ границы части сознания. Все сновидения, где фигурируют двери могут быть рассмотрены психоаналитиками с точки зрения самоощущений человека и степени богатства опыта не только любовных чувств, но и эмоций вообще. Юнгианский анализ связывает символику двери с конкретным действием: «Дверь разделяет два пространства, которые связаны в свою очередь со временем (из прошлого в настоящее и будущее), поэтому важно направление движения через дверь, ее местонахождение и степень усилий, необходимых для ее преодоления» [18, 290]. Как видим, разнообразие уже существующих толкований (часто взаимоисключающих друг друга) не исключает возможность новых. Сновидение
Андрея следует понимать и как пророческое видение, но одновременно оно содержит пространственные аллегории. Дверь - архетипический образ границы двух миров, а борьба Андрея с ней - это его сопротивление неизвестному. «Дверь - черта, рубеж, на котором как бы сфокусировано ожидание, и дверь - заслон. Или точнее так: дверь - привычный предмет, который можно предложить зрению взамен нечеловеческого «оно» [19, 53]. Пространство в сновидениях персонажей может быть интерпретировано с разных точек зрения: с точки зрения традиционных фольклорно-мифологических аллегорий и символов и с точки зрения соотнесенности с действительным, реальным пространством в романе. О соотнесенности онейри- ческого образа «дверь» и пространственным локусом романа речь будет идти в главе седьмой, параграфе 7.2.
В конце первой части последнего тома романа умирает князь Андрей, но жизнь продолжается. И вот в третьей части описано нетерпение Пети Ростова перед первым боем. Он не спит. Слушает, как падают капли с деревьев после недавно прошедшего дождя. Всматривается в темноту. Его воображение преображает реальный мир по типу сказочномифологического сознания. «Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть - глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц - все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это - самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было» (6, 157-158). «Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно. Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля» (6, 158). Обратим внимание на гиперболический фольклорно-мифологический характер превращений реальности: действительность - «волшебное царство»; «караулка» - «большое черное пятно» - «пещера, которая вела в самую глубь земли»; «красное пятно» - «огонь» - «глаз огромного чудовища»; сидит на фуре - на «страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц - все лететь и никогда не долетишь»; казак Лихачев - а может «самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете»; проходил гусар за водой - может его и не было. Это фольклорно-мифологический образный ряд естественно переходит в сон и определяет его фантастическую поэтику превращений реальных звуков (точат саблю, падают капли дождя, ржут лошади) в музыкальные.
Казак точит юноше саблю, и эти звуки погружают Петю Ростова в измененное состояние сознания, состояние между сном и бодрствованием. «Ожиг, жиг, ожиг, жиг... - свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы - но лучше и чище, чем скрипки и трубы, - каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное. «Ах, да, ведь это я во сне, - качнувшись наперед, сказал себе Петя. - Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!...» Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», - сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов. «Ну, тише, тише, замирайте теперь. - И звуки слушались его. - Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее». - И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки.- «Ну, голоса, приставайте!» - приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него» (6, 158159). Ощущение счастья, которое испытывает Петя Ростов от своего музыкального сновидения, перекликается со счастьем Альберта, играющим во сне на стеклянной скрипке. Но Петя в отличие от героя повести Толстого не думает о славе.
В описании этого музыкального сновидения Пети Ростова, конечно, проявилась универсальная талантливость Толстого, который сам был необыкновенно музыкален, хорошо играл и неоднократно вставлял музыкальные сцены в свои романы, повести, рассказы, драмы. «Необычайная красота» органной, полифонической музыки сновидения-фуги, от которой Пете «страшно и радостно», психологически точно передает состояние романтической души молодого героя, который любит всех и всё. Эмоциональный сон младшего Петра не случайно предшествует в романе сну-притче старшего Петра, так как Толстой всегда считал, что «музыка хороша тем, что соединяет людей в одном чувстве», способна «возбуждать через звуки известные чувства», не называя их [20, 418; 395].
Завершает четвертый том пятый сон Пьера Безухова. Его можно назвать самым счастливым сном, но его же считают концентрированным образно-символическим воплощением философской концепции мира в романе Толстого. Г.Б.Курляндская называет этот сон «вещим»: он становится «образным, конкретно-наглядным выражением сложных, противоречивых, в конечном счете, диалектических представлений Толстого о жизни, о борьбе в ней противоположных тенденций, которые проявляются и в отдельной личности» [21, 31]. Это сон, в котором проявляется образ живого глобуса, колеблющегося шара, состоящего из капель, плотно сжатых между собой. «Вот жизнь, - сказал старичок учитель.- В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез» (6, 170-171). Автор намеренно подчеркивает связь этого сна с предыдущим кризисным сном Пьера в Можайске. Но если тогда неожиданное пробуждение что-то уничтожило в открывшемся ему смысле и «Пьер с ужасом почувствовал, что всё значение того, что он видел и думал во сне было разрушено» (5, 305 - подчеркнуто В.С.), то сейчас, в плену даже разбудивший его грубый голос француза («Vous avez compris, sacre nom» - «Понимаешь ты, черт тебя дери»), как бы родившийся из фразы старичка-учителя из сна («Vous avez compris, mon enfant» (6, 171), не может поколебать открывшуюся Пьеру после всех страданий истину жизни. Его память полна нахлынувших впечатлений и воспоминаний, он закрыл глаза, и, как пишет Толстой, «он опустился куда-то в воду, так что вода сошлась над его головой» (6, 172), - то есть тоже стал каплей, отражающей Бога и утонувшей в живом шаре. А перед восходом солнца его разбудили выстрелы отрядов Долохова и Денисова, которые освободили пленных. Пробуждение от кризисного сна совпало с обретением свободы. Даже смерть Каратаева в сновидении воспринимается как слияние, а не как обособление.
Все российские и зарубежные исследователи обращают внимание на соположенность образа живого глобуса и мотива круглости при обрисовке образа Каратаева. В этом ряду появление Каратаева в сновидении символично.
также и смерть. Если Каратаев, растворяясь в ней, умирает, то с Пьером происходит обратное. В финале сновидения он опускается в воду, но его пробуждение совпадает с освобождением из плена. «Интересно, что Безухов просыпается от грохота ружей русских солдат, выручивших Пьера и других пленных из неволи. Безухов вытащен из воды, так сказать, спасителем (между сном и сценой спасения нет промежуточного текста). Это действие весьма напоминает рождение». «В психоаналитической литературе фантазии на тему спасения часто подразумевают рождение» [22, 481]. «Во всяком случае, если спасение Пьера означает его рождение, то уместно спросить: кто же мать? Вот одно предположение: матерью являются русские солдаты в своей совокупности - освобождение-то принесли именно они. На выручку пришла, так сказать, матушка-Россия». И далее Д.Ранкур-Лаферьер высказывает еще одну версию: «На мой взгляд <. > : мать здесь Платон Каратаев. Именно благодаря ему Безухову привиделся сон с жидким шаром, именно Платон обитает в нем» [22, 482]. Исследователь указывает на женские качества Каратаева: голос «почти женский или похож на говор старых баб, он часто стряпает и шьет, а его округлые черты, логично предположить, женственны» [22, 483]. Суммируя итог эволюции Пьера, Д.Ранкур-Лаферьер пишет: «Итак, итогом перерождения Безухова становится утверждение его самости, независимой от самости других людей. <...> Подытожим: можно сказать, что под воздействием материнской фигуры Платона Каратаева Пьер психологически перерождается. Каратаев при этом, однако, отходит в мир иной. Он умирает «при рождении» Пьера» [22, 485].
Найденный образ делимого и нераздельного сопряженного целого соотносится и с другими образами в авторских философских рассуждениях из романа: рассуждением о солнце и атомах эфира, которые представляют собой «шар», «атом недоступного человеку по огромности целого» (6, 262); многочисленными рассуждениями о движении истории, которая слагается из множества отдельных воль «всех людей» (6, 343); уподоблением жизни Москвы людей жизни улья или муравейника (6, 226); наконец, авторскими замечаниями о законах жизни лысогорского дома, в котором «жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое» (6, 291). Интересно, что Д.С.Мережковский, давая очень глубокое толкование этого сна как выражения толстовской концепции мира и Я через сочетание «центростремительного» (Платон Каратаев) и «центробежного» (Наполеон) начал, не видит в этом сне особой художественности: «Большого художественного значения сон этот не имеет; но он проливает неожиданный свет на все религиозное и философское миросозерцание Л.Толстого» [16, 180]. Чувство целого, открытое в плену, было более убедительно и жизненно; образ Платона Каратаева заслоняет собой Баздеева, как и образ живого шара ярче, чем образ прекрасного здания в сне из дневника Пьера.
В статье «Язык символов эпоса Л.Н.Толстого (небо - земля - дверь - круг)» О.Б.Панова пишет, что «сон Пьера создает мирообраз в его завершенности, жизненный универсум». «Во сне Пьера явлен великий Мировой Круг (в чем-то сродни архаической мандале - реальности абсолютной целостности). Круг (глобус, шар) - Вселенная. Достаточно очевидна центральная точка - Бог, вокруг которой путем вращения обозначается, «очерчивается» окружность, так возникает образ Бытия. Здесь круг может рассматриваться в своей двуединой природе - как диалог статичного и динамичного начал» [23, 72].
В.Камянов в книге «Поэтический мир эпоса» сближает последний сон Пьера Безухова с предшествующим ему сном Пети Ростова и пишет о «композиционной, пространственновременной встрече Петиной «волшебной музыки» и сна Пьера «о водяном шаре» [19, 284], так как два эти сна снятся героям в одну ночь: для одного эта ночь накануне гибели, для другого - накануне долгожданного освобождения из плена. Сон, который видит, а точнее слышит Ростов, можно считать слуховой галлюцинацией, которая соединила музыку невидимого оркестра, мужские и женские голоса и падающие звуки капель недавно прошедшего дождя, свист натачиваемой сабли, ржание лошадей. В.Камянов указывает иа идейную соотнесенность фраз в двух снах: «Сопрягать надо!» и «Ну, голоса, приставайте!», - и называет картины Петиного сна «апофеозом темы согласия» [19, 284-285]. Добавим, что звуки падающих капель в музыкальном сне Пети служат звуковым фоном визуального образа капель из сна Пьера или, наоборот,- живые капли во сне Пьера являются иллюстрацией звуков капель, но и те и другие капли попадают в сны благодаря прошедшему дождю, который наблюдали оба героя. Сны Пети и Пьера как бы взаимоиллюстрируют друг друга: лучшего музыкального сопровождения к образу живого водяного шара, чем фуга из сна Пети трудно представить. Закон сцепления предполагает, что читатель вспомнит описание дождя на Бородинском поле (5, 272-273), и тогда становится возможным говорить об особой символике не только неба, но и дождя в романном мире Толстого.
Обращает на себя внимание и то, что автор вмешивается с комментариями в текст сновидения героя, тем самым раскрывая свое соприсутствие в этом сновидении. Именно он поясняет нам, что Петя «никогда не учился музыке», но «был музыкален, так же как Наташа», и то, что он слышит и чем руководит, «называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга» (6, 158). Толстой не случайно определяет жанр музыкального сновидения, так как фуга - многоголосое полифоническое произведение (фуги И.С.Баха, Г.Ф.Генделя) и высшая форма полифонической духовной музыки.
Если сны Пети и Пьера (то есть сны двух героев-тезок) усиливают и дополняют друг друга, то кризисные сны Пьера и Андрея Болконского, напротив, контрастны, так как преображение их душ осуществляется в них в качественно разных направлениях. Эти сны типологически сходны, но идейно-психологически диаметрально противоположны. И в том и в другом сне появляются знакомые люди, и тому и другому открывается важность любви, но сюжет сна Пьера состоит в соединении с другими, а сюжет сна Андрея - это отъединение от них, уход. И может быть, этот первый уход героя Толстого предвосхищает его собственный, еще очень далекий уход перед смертью и разрыв связей с близкими и ближними. Пьер открывает для себя важность земной жизни, смысл которой состоит в том, чтобы «сопрягать», соединять, принимать ее как единый мир. Андрей Болконский пробуждается от своего кризисного сна, в котором он умер, только для того, чтобы отстраниться от сна жизни и не принимать уже в нем участие, то есть выполнить то, что предсказано сном - умереть.
3.1.6. Сновидение Николеньки Болконского: встреча отца и сына во сне. Последнее сновидение включено в эпилог романа. Этот сон Николеньки Болконского, помимо важной психологической функции, обладает большим футурологическим эффектом в открытом эпилоге романа. В нем заложена энергетика потенциального виртуального продолжения сюжетного действия, намечены конфликты и повторы развивающейся спирали жизни семьи Ростовых, Болконских и Безуховых. Об этом сне, как и о предыдущих снах князя Андрея и Пьера, чаще всего упоминают исследователи романа Толстого. Вот как пишет С.Г.Бочаров в монографии о «Войне и мире»: «Во сне Николеньки каски на нем и на Пьере такие, как нарисованы в издании Плутарха, а мальчик думает о людях Плутарха, римских героях: «Но отчего же и у меня в жизни не будет того же?» А впереди, там, куда движется войско его и Пьера, - «впереди была слава». На последней странице повествования возрождаются те мотивы, которые, кажется, были давно оставлены позади и даже развенчаны. Но вот они вновь обаятельны, волнуют вновь человека, путь которого начинается» [24, 102-103].
Приведем фрагмент, в который включен сон. «Николенька, только что проснувшись, в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках - таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge {нитями Богородицы}. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они - он и Пьер - неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.
- Это вы сделали? - сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. - Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. - Николенька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец - князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся.
«Отец, - думал он. - Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил - я сделаю это. Муций Сцевола сжег свою руку. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился, И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу бога: чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною». И вдруг Николенька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал» (6, 313-314).
В.В.Мароши называет этот сон «метатекстовым фрагментом», который содержит ключевые слова текста романа: «огромное войско», слава, движение к цели, белые линии, «слабость любви», жалость, ужас. Во сне эти образы фантастически связаны и приобретают иносказательный смысл. «Особая «плотность» славы во сне представляется нам развертыванием аллегории славы в аспекте её плотской, телеснопредметной сущности. Подобный признак («плотный») используется в повествовании в батальном пейзаже и портретах персонажей из военной среды» («плотными рядами», «плотный молочно-белый дым», «генерал, плотный и широкий...») [25, 125]. «Загадочный цвет славы и линий, ведущих к ней («белые косые линии») во сне, маркирован внутри текста военной эмблематикой: «белым» в повествовании маркированы портреты и описания всех военачальников и солдат»
(«рука государя в белой перчатке», «белый плюмаж», «на белой лошади» [25, 125]. «Огромность» войска во сне характеризует не только эпический масштаб, но и степень тщеславия героев», а сеть линий-паутин - впечатляющая аллегория того «бесконечного ряда причин», с которыми столкнутся в повествовании об истории автор и его герои» [25, 126-127].
«Эгоистические герои «ослабевают», «запутываются», а выходом из очередной тяжелой ситуации становится потеря героем формы, силы, твердости в ситуации слабости - ранения, близости смерти, душевного размягчения или при столкновении с героями, отмеченными мотивами жалости, ласки, слабости (Кутузов, Марья Болконская, Каратаев)» [25, 126]. Комментируя финал сна, в котором появляется отец мальчика, В.И.Габдуллина указывает на то, что для читателя «очевидно заблуждение Николеньки, принявшего жалость к нему отца за одобрение». «Явившийся во сне дух Андрея Болконского, который в конце жизни разочаровался в мечтах своей молодости о славе и пришел к пониманию того, что от воли одного человека не может зависеть исход события (вспомним его разговор с Пьером накануне Бородинского сражения), не одобряет, а именно жалеет своего сына; тому еще предстоит пройти путь, в конце которого самому князю Андрею открылась истина» [26, 206].
Сон Николеньки в эпилоге не только знакомит нас с внутренним миром повзрослевшего героя [27], но и противостоит сновидениям четвертого и пятого томов. Не случайно он назван «страшным» (6, 313). В его картинах представлена намечающаяся дисгармония мира. Отмечено, что сны о гармонии мира снятся Пете и Пьеру в момент войны, а сон о нарушении гармонии снится Николеньке в то время, когда все персонажи обрели благополучие, а жизнь стабильность. Предшествующим образам звуков «огромного хора инструментов» (6, 159) и «живого колеблющегося шара» и живых капель (6, 170) противостоят теперь «косые линии», «нити», которые «ослабевают», «путаются», вызывают тяжесть, и «поломанные сургучи и перья», которые тоже попадают в сон юноши. Ощущению радостного сознания собственных сил у Пети и Пьера противостоят ощущения бессилия и слабости, которые испытывает в конце сна Николенька: «Он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким» (6,313). Переживая и осмысляя свой сон, Николенька плачет, и это позволяет вспомнить другого Николеньку, из «Детства», плачущего после пробуждения. Так сюжет самого большого романа Толстого через сон смыкается с завязкой его первой повести.
Исследователи мифопоэтики романа обращают внимание на то, что «в «Войне и мире» осуществляется проекция мифопоэтической конструкции «отец - сын»: взаимосвязь Андрея (отца) (сына) вовлекается в центральный христианский миф - историю смерти и воскресения Христа, сближается с взаимоотношением Отца и Сына Евангельских преданий; создаётся авторский, толстовский «миф» о смерти, возрождении (воскресении), продолжении рода, в основе которого находится известная архетипическая структура. Для Николеньки князь Андрей - не только родитель, дающий жизнь, но Отец духовный, сокровенный наставник, учитель, это означает пребывание, воплощение, духовное продолжение Отца в Сыне; достигается преодоление эмпирического времени» [28, 41].
Вычитывание христианской мифологемы вовсе не исключает иного взгляда на отношения Николеньки и отца. Толстой описывает пятнадцатилетнего мальчика, наблюдающего взрослый мир и ищущего идеала. Таковыми для него становятся Пьер и отец, которого он не помнил: он «представлялся ему божеством, которого нельзя было себе вообразить и о котором он иначе не думал, как с замиранием сердца и слезами грусти и восторга» (6, 292). Сон пятнадцатилетнего мальчика создает ситуацию посвящения в герои (инициации), в которой Николенька делает свой выбор и встречается с отцом. Превращение образа Пьера в князя Андрея естественно для логики сна, но и желанно для спящего. Чувство вины перед дядей перерастает в ужас от столкновения с ним во сне. Путающиеся линии, как и поломанные сургучи и перья - символы надвигающегося хаоса, противостоять которому может только любовь. Характерна для сновидения и смена ролей Пьера и князя Андрея: Пьер предстает в сне воинственным, впереди огромного войска, а отец - жалеет и ласкает сына. В этом завершающем роман сне не только сведены вместе три главных мужских персонажа романа, но объединены столь близкие автору мотивы снов князя Андрея и Пьера. Радость движения к цели и мечты о победе в первой половине сна Николеньки воскрешают мотивы снов князя Андрея, а ощущение того, что он стал «бессильным, бескостным и жидким» должно напомнить последний сон Пьера перед освобождением из плена (живой шар из капель, которые разливались и сливались; мысли Пьера о «жидком колеблющемся шаре» (6, 171-172).
3.1.7. Онейропоэтика. Сновидения романа были рассмотрены в их линейной последовательности по мере их появления в тексте. Но важно обратить внимание на то, как усложняется концептуальный смысл сновидений. Семь снов из первого и второго томов романа носят явно психологический и чувственный характер. Толстому важно передать телесное «ясновиденье» персонажей, тактильные, слуховые, зрительные ощущения, а так же сумятицу чувств и противоречивых земных желаний, в которых отражается борьба между духовным и телесным, земным и высшим. По своему содержанию и функционально они явно противостоят четырем философско-символическим сновидениям третьего и четвертого томов. Эти четыре сновидения и сновидение эпилога явно соседствуют с трагедийными мотивами смерти.
Концептуальное объединение сновидений не исключает комбинаторного их объединения по персонажному принципу и по принципу семейному. Сновидения пяти мужчин, принадлежащих к трем семьям, несут в себе и черты породы. Так, сны Ростовых основаны на чувствах и живых ощущениях; в снах отца и сына Болконских сочетаются восприимчивость, интуитивность и одухотворенность; снам Пьера присущи страстность и умозрительность, то есть не прекращающаяся и во сне работа сознания.
Анализ показывает, что соотнесенность снов с композицией романа или изучение сновидений по персоналиям вовсе не исключает необходимости «сцепления», «сопряжения» их между собой. По мнению Д.А.Нечаенко, велико познавательное значение сновидений для понимания философии Л.Толстого: «В романе «Война и мир» плавное эпическое повествование движется (как и в Библии, особенно в Ветхом Завете) параллельно в двух планах, двух измерениях, двух сопредельных сферах бытия: в реальном пространстве «мира сего» - и в сюрреалистической, фантасмагоричной сфере многочисленных персонажных снов, «сообщающихся» друг с другом, тематически и композиционно перекликающихся между собой» [29, 280].
Место снов в композиции романа может быть наглядно представлено в виде схемы-рисунка, где стороны квадрата и деления обозначают том и соответственно части, а пронумерованные кружки - сновидения. Сновидения первого и второго томов отделены пунктирной линией от сновидений третьего и четвертого томов, а стрелками обозначен их контраст. Эпилог со сном вынесен за пределы квадрата. Схеме сопутствуют краткие характеристики двенадцати снов (см. рис. 3).
В романе «Война и мир» возможно объединение сновидений в персонажные циклы, но вряд ли целесообразно рассмотреть все сновидения как единый цикл, так как в их соотнесенности действуют не столько силы притяжения, сколько отталкивания. Можно говорить о двух видах персонажных циклов: три личных цикла снов, которые принадлежат князю Андрею, Николаю Ростову и Пьеру Безухову; два семейных цикла снов, которые образуют сны Ростовых и сны отца и сына Болконских. Сновидения первого и второго томов и третьего и четвертого можно объединить в концептуальные циклы: в этих снах персонажей отражены преимущественно проблемы и впечатления текущей жизни (первый и второй тома), а потом прозрения и предчувствия. Поэтому второй концептуальный цикл объединяет кризисные сны третьего, четвертого томов и сон эпилога.
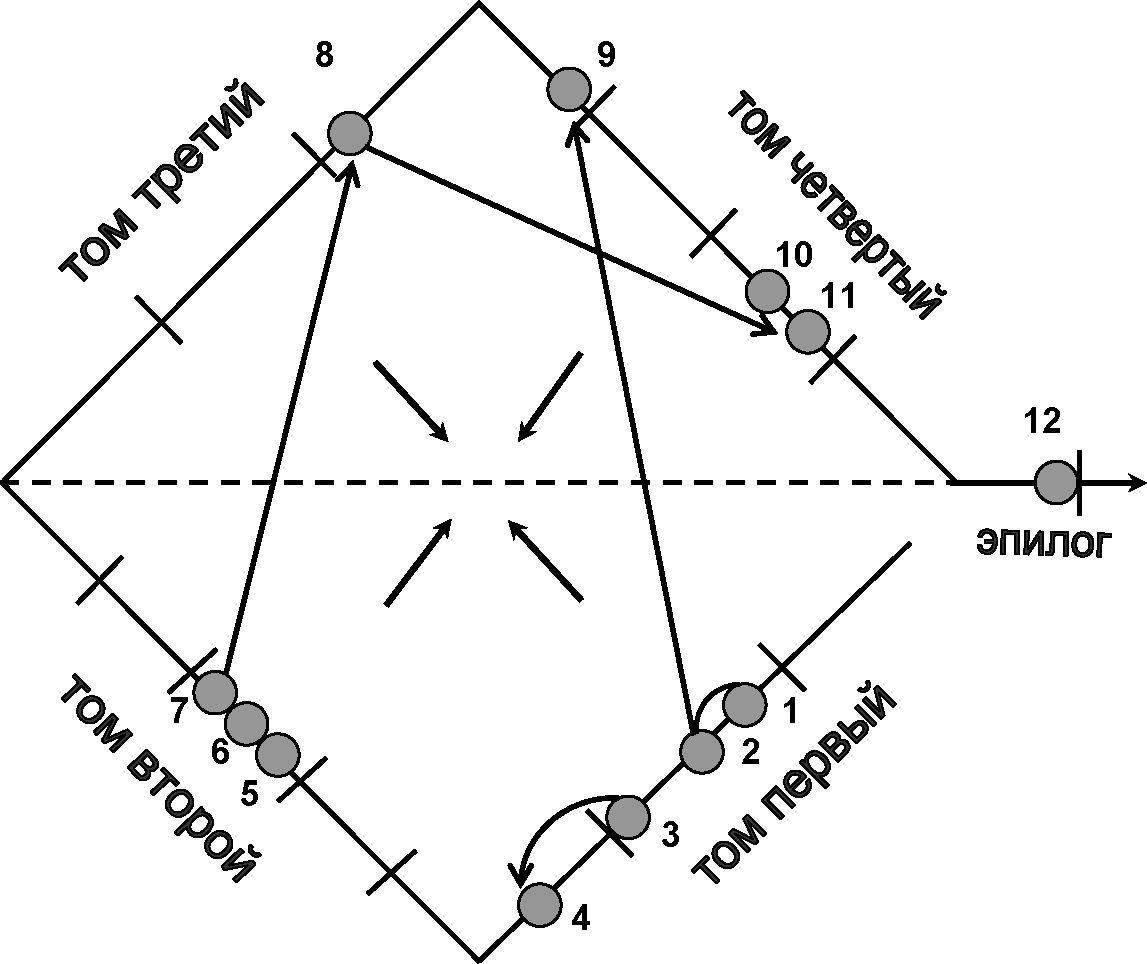
Рис. 3.
1. счастливый сон Андрея Болконского после сражения (т.1, ч.2, гл. IX);
2. возвращающийся сон князя Андрея (т.1, ч.2, гл.Х);
3. сон-кошмар, сон-воспоминание раненого Николая Ростова (т.1, ч.2, ra.XXI);
4. засыпание и сон на грани реальности Николая Ростова (т.1, ч.3, гл.ХШ);
5. аллегорический сон-кошмар из дневника Пьера Безухова (т.2, ч.3, гл.Х)
6. масонский сон из дневника Пьера Безухова (т.2, ч.3, гл.Х)
7. масонский сон из дневника Пьера Безухова (т.2, ч.3, гл.Х)
8. кризисный сон Пьера Безухова в Можайске (т.3, ч.3, глІХ)
9. кризисный сон Андрея Болконского перед смертью (т.4, ч.1, гл.Х?Г)
10. музыкальный сон-фуга Пети Ростова (т.4, ч.3, гл.Х)
11. продолжающийся кризисный сон, сон-притча Пьера (т.4, ч.3, гл.Х?)
12. страшный сон, сон-видение о будущем Николеньки (эпилог, ч.1, гл.Х?!)
Обращает на себя внимание психологический контраст снов Пьера и Андрея; Андрея и Николая Ростова; Пети Ростова и Николеньки Болконского. Спиральная возвратность мотивов сновидений в родственных парах у братьев Ростовых или отца и сына Болконских подчеркивает генетическое начало их породы, интерес Толстого к возрастной антропологии, но не может стать основой универсальной типологии циклизации сновидений. Сновидения героев Толстого как бы взаимоотменяют друг друга, представляют движение от одного чувства или истины к другому более глубокому и истинному. Ведь, фактически, Андрей после первого ранения уже не мог бы увидеть те два сна, которые он видел в первом томе романа, а сны Пьера из второго тома уже потеряли для него актуальность, потому что он не просто вырос из них (вспомним цитируемое выражение Толстого - «видим сущность своей жизни: - степень своего роста» (55, 19) или перерос их во времени, он пророс через них.
Сны Раскольникова в романе «Преступление и наказание», наоборот, как бы вложены один в другой (по принципу матрешки) - это один виртуальный цикл-макросон, который рассыпан по линейному полю текста. Сны в романах Достоевского более рациональны, тенденциозны, в них угаданы универсалии возрастного человеческого духовного бытия. Придумывая сновидения своих героев, Толстой менее, чем Достоевский, их контролирует, он предоставляет им свободу, не пытается унифицировать человеческую природу на уровне сновидного бытия, как он пытается её унифицировать в мире социальных отношений. Оттого в мире Толстого, пока герой жив, читатель не может прогнозировать, какой следующий сон, продиктованный чувством, мыслями и ощущениями, увидит этот персонаж.
Повторяющийся характер отдельных элементов сновидений разных героев и кольцевое обрамление, можно сказать онейрическое кольцо (сон Николеньки из эпилога возвращает нас к первым сновидениям Андрея Болконского из первого тома), позволяют выделить некоторые существенные для художественной антропологии Толстого представления о родовой и универсальной природе человеческого «я».
Подчеркнем, что взгляды Толстого на сновидение получат дальнейшее развитие в его романах «Анна Каренина» и «Воскресение», повестях, дневниках, религиозно-философской прозе, но при всем том уже в романе «Война и мир» художественная гипнология Толстого предстает как сформировавшаяся и отдельная область его поэтики.
Толстой создает сновидения, в онейропоэтике которых присутствует сюжет с явно выраженными элементами завязки, кульминации, развязки (сновидения Пьера, последний сон князя Андрея, сон Николеньки Болконского), или, наоборот, сновидения с распадающимся сюжетом, основой поэтики которых являются сюрреалистические ассоциации и превращения визуальных образов и речевых форм (сны Николая и Пети Ростова).
При написании сновидений персонажей Толстой учитывает особенности их душевно-чувственной индивидуальности и, исходя из этого, выдвигает в образном строе сна героев конкретные образы-звуки, цвето- и светообразы, визуальные образы, тактильные, образы мира природы, образы предметного мира, пространственные формы.
Обращает на себя внимание особая поэтика синтаксиса, лексики и фонетики в микротекстах сновидений, включенных в реалистическую прозу писателя.
приемов инверсии, стяжения, умолчания. Эта особенная поэтика, увязанная с художественной гипнологией Толстого, используется им при передаче сноподобных или измененных состояний сознания персонажей (бред, стресс, греза, галлюцинация).
Как и в семейной хронике Достоевского «Братья Карамазовы», так и в романе-эпопее «Война и мир» можно говорить о полижанровой структуре художественного целого. Сновидения в «Войне и мире» - это микрожанры в полижанровой эпопее - соседствуют с жанрами семейного романа, военной прозы, философского трактата, дневника, миниатюры, экфра- сиса и драмы.
3.2. Сны в романе «Анна Каренина»: онейрический текст и дискурс
3.2.1. Сон Стивы Облонского и эпикурейские мотивы в романе. Онейропоэтика во втором романе Л.Толстого меняется: снов меньше, но они сквозные и поэтому сложнее увязаны с романной явью; введены мужские и женские сновидения; важную роль играет повтор онейрических текстов и их варьирование; сновидения сопровождают только сюжетную линию Анна - Вронский, но отсутствуют в сюжете Левин - Кити. Если в «Войне и мире» мужские сновидения можно сгруппировать по семейному принципу (сны Ростовых, сны Болконских, сны Безухова), то в романе «Анна Каренина» сновидения соотносятся парно: сон брата - сны сестры и сон Вронского - второй сон Анны.
Онейрические тексты в романе явно находятся на грани перехода устного дискурса в письменный. Сон Облонского передан читателю через внутреннюю речь персонажа в момент пробуждения. Это сон-припоминание. Разделенное сновидение Вронского и Анны представлено сначала через внутреннюю прямую речь Вронского, а потом как спонтанная внешняя речь Анны, которая ищет слова, чтобы описать недавно увиденное. Элементы припоминания, уточнения играют существенную роль при передаче персонажем сновидения. Для Толстого, как и для его персонажей, особенно важно сохранить и передать этот изначально невербальный компонент сновидения: звуки, визуальную графику, цветовую палитру, фантастические метаморфозы картин и образов.
Роман начинается с пробуждения Стивы Облонского. «Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. «Да, да, как это было? - думал он, вспоминая сон. - Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, - и столы пели: Il mio tesoro, и не II mio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», - вспоминал он. Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь» (7, 5-6). В.В.Набоков так определяет смысл этого сновидения: «Стива просыпается не в супружеской постели, но в тиши своего кабинета. Однако не это самое интересное. Самое любопытное заключается в том, что автор искусно изображает легкомысленную и незатейливую, распутную, эпикурейскую природу Стивы через призму его сна. Это способ представить Облонского: мы знакомимся с ним через его сон. И еще сон с маленькими поющими женщинами будет разительно непохож на сон с бормочущим мужичком, который приснился Анне и Вронскому» [30, 234] .
В комментариях В.Набокова к роману и в статье Б.А.Каца воссоздан клубок ассоциаций и аллюзий, которые соединились в этом сновидении. В частности В.Набоков указывает на то, что музыкальная фраза принадлежит Дону Оттавио, преданно влюбленному в Дону Анну персонажу оперы Моцарта «Дон Жуан» [30, 285] . Б.А.Кац, обращая внимание на уточнение Стивы «не Il mio tesoro, а что-то лучше», цитирует замечания М.С.Альтмана: ««Чего еще нужно этому Степану Аркадьевичу, сыну Аркадия и... Аркадии: Wein, Weib und Gesang - все ему дано в его сне», а далее продолжает. «И вот тут следует добавить, что во времена Толстого приведенное выражение (вино, женщина и пенье) было известно не только как расхожее обозначение (происходящее от старинной немецкой песни) гедонистического отношения к жизни, но и как название музыкального сочинения, которое на самом деле для Стивы оказывалось лучше Моцартовой арии. Это знаменитый вальс И.Штрауса «Wein, Weib und Gesang», действительно запечатлевший в музыке ту эмоциональную атмосферу, в которой Стива Облонский - как рыба в воде». Б.А.Кац видит в уточнении Стивы художественный прием: «явная отсылка через одну музыкальную реалию - названную - к другой - неназванной» [31, 345].
Элементы дискурса сновидения Облонского будут варьироваться в тексте романа: персонажи будут часто говорить о музыке, еде, женщинах и о том удовольствии, которое они доставляют. Повествовательный дискурс («Алабин давал обед...») будет оживать не только в тех обедах, в которых будет участвовать сам Облонский, но и во всех многочисленных гастрономических сценах романа.
Введение в сновидение героя музыкальной темы уже возникало у Л.Толстого в «Войне и мире» (сон Пети Ростова), но во втором романе художественная мотивировка онейрической музыкальной темы иначе увязана с явью. Так, позже Стива декламирует Левину куплет из оперетты И.Штрауса «Летучая мышь» (7, 49), легкомысленный смысл которого контрастирует с цитируемыми Левиным строчками Пушкина (7, 47). Облонский участвует вместе с Вронским в организации ужина для известной «дивы» (итальянским словом «божественная» называли знаменитых певиц) (7, 69), а петербургский свет слушает пение заезжих знаменитостей: Кристины Нильсон и Карлотты Патти. В Петербурге «знаменитая певица пела второй раз, и весь большой свет был в театре» (7, 144). Но пение, музыка - это только культурный фон, на котором плетется рисунок интриг, сплетен и страстей.
Музыкальные мотивы в романе сопутствуют эпикурейской теме, часто переплетаются с гастрономическими мотивами, входят в сферу чувственных наслаждений персонажей. Вронский перед знакомством с Анной думает, как провести вечер, упоминает одно увеселительное заведение по типу кафешантана, где «найду Облонского, куплеты, cancan» (7, 67). На балу во время танца происходит сближение Анны с Вронским, и Кити, глядя на них, танцующих мазурку, понимает, что «они чувствовали себя наедине в этой полной зале» (7, 95). В романе сообщается о посещении Карениным итальянской оперы (7, 401), и он же в своих размышлениях об обманутых мужьях упоминает комического Менелая из оперетты Ж.Оффенбаха «Прекрасная Елена» (7, 311).
В пятой части романа, после свидания с сыном, возбуждение и раздражение Анны достигает предела, и она совершает отчаянный поступок, решаясь ехать в оперу слушать Патти, тем самым бросает вызов свету. Вронский пытается её остановить. После отъезда Анны в театр, раздраженный Вронский нечаянным движением «зацепил столик, на котором стояла бутылка сельтерской воды и графин с коньяком, и чуть не столкнул его. Он хотел подхватить, уронил и с досады толкнул ногой стол и позвонил. <. > камердинер стал разбирать целые и разбитые рюмки и бутылки» (8, 124). В этой сцене аллюзивно оживают мотивы сновидения Облонского, но теперь они теряют свой эпикурейский смысл: стеклянный графин разбит, напитки разлиты и музыка не приносит удовольствия (не случайно в театре мать говорит Вронскому об Анне по- французски: «Она производит сенсацию. Из-за нее забывают о Патти» (8, 128).
Следует обратить внимание, что на этом фоне светской моды на музыку Левин явно выделяется своим равнодушием к ней. В седьмой части романа Толстой описывает посещение Левиным утреннего концерта, который не доставляет ему удовольствия: «Левин во все время исполнения испытывал чувство глухого, смотрящего на танцующих» (8, 276). Позже Левин в ответ на вопрос («Вы были вчера в опере? Очень хороша была Лукка») автоматически повторяет фразу: «Да, очень хороша», - и продолжает «повторять то, что сотни раз слышал об особенности таланта певицы» (8, 278).
Гастрономические мотивы первого онейрического текста тоже тесно увязаны с романной явью. Во время подробно описанного обеда Облонского и Левина в «Англии» происходит разговор об увлечениях «другими женщинами». Левин категоричен: «Не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач» (7, 48). Облонский подхватывает параллель: «Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься» (7, 49). В седьмой части романа Анна думает об охлаждении Вронского: «Да, того вкуса уж нет для него во мне» (8, 360) и тут же мысленно произносит английский фразеологизм: «The zest is gone» {Вкус притупился}. Это фраза, в которой эротические мотивы переданы через гастрономические.
В четвертой части Облонский устраивает званый обед, и одна из целей обеда - свести Кити и Левина и помирить их.
«Степан Аркадьич любил пообедать, но еще более любил дать обед, небольшой, но утонченный и по еде, и питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась: будут окуни живые, спаржа и la prece de resistance {главное блюдо (франц.)} - чудесный, но простой ростбиф и сообразные вины: это из еды и питья. А из гостей будут Кити и Левин, и, чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой, и la ріесе de resistance из гостей - Кознышев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович - москвич и философ, Алексей Александрович - петербуржец и практик; да позовет еще известного чудака энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего пятидесятилетнего юношу, который будет соус или гарнир Кознышеву и Каренину» (7, 414). «Обед с материальной стороны удался; не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор, то общий, то частный, не умолкал и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился» (7, 427).
Первый сон ассоциативно стягивает все гастрономические и музыкальные сцены и разговоры, а танцующие графинчики-женщины в сне Облонского - это символический фантасмагорический образ, соединяющий четыре чувственных удовольствия: зрительное, слуховое, гастрономическое, эротическое. его актуальными именными реалиями. «В это время (февраль 1872 г.) кельнская газета, выходившая в Дармштадте, <...> уделяла большое внимание так называемому Алабамскому вопросу (этим термином обозначали американские претензии к Великобритании после Гражданской войны, в ходе которой был нанесен урон американскому морскому флоту). В результате Дармштадт, Алабин и Америка смешались в сне Облонского» [30, 284-285] .
3.2.2. Чередование и парность ситуаций сна и пробуждения в романе. В поэтике романа чистые онейрические тексты коррелируют с эпизодами, в которых представлены сноподобные состояния или в которых понятие «сон» используется как объект сравнения. Этот характерный прием распыления онейрического текста способствует формированию единого пространства онейрического дискурса в сложной архитектонике текста всего романа. Для этого дискурса характерна ситуация коммуникативной неуверенности в достоверности происходящего или неадекватного понимания высказывания, размолвок в отношениях адресант-адресат. Получается, что в поэтике романа реализован литературный архетип двоемирия, представленный в драме П.Кальдерона «Жизнь есть сон», где героя сначала убеждают, что явь, в которой он оказывается, есть сон, а потом он сам не уверен в существовании четких границ между этими состояниями.
Пробуждение Стивы возвращает его к нерешенным жизненным вопросам, и автор пишет: «Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни» (7, 8). Эта игра понятиями «сон наяву» (сон жизни) и «сон во сне», их путаница значима для других героев романа. Так, Кити воспринимает бал как «волшебное сновидение» (7, 92), которое завершается драматическим пробуждением в реальность. Для Анны и Вронского же, наоборот, начинается иной период, для которого характерно перемещение из обыденности в онейрическое. «То волшебное напряженное состояние, которое ее мучало сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло и поезд подходил к Петербургу» (7, 117-118). Вронский тоже «не пытался заснуть» (7, 118) и «не спал всю ночь» (7, 119): «Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего» (7, 119). Этому параллельному мотиву бессонницы персонажей ранее был противопоставлен параллельный мотив глубокого сна. Анна говорит Долли: «Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок» (7, 85). Вронский до встречи с Анной «только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном» (7, 67). Заметим, что в седьмой части по мере нарастания конфликта ритмическое тождество чередования сон/бессонница между Анной и Вронским нарушается. Теперь её бессоннице соответствует его глубокий сон (сравните: «она лежала в постели с открытыми глазами» - «он спал в кабинете крепким сном» (8, 348) .
Выздоровев после тяжелой болезни, окончательно разорвав отношения с мужем и живя с Вронским за границей, Анна начинает воспринимать все прошедшее как сон. Это отдаление реальности через уподобление её сну - знаменует путь нового раздвоения. «Воспоминание обо всем, что случилось с нею после болезни: примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощанье с сыном - все это казалось ей горячечным сном, от которого она проснулась одна с Вронским за границей» (8, 34). Во время визита Долли в имение Вронского Анна признается ей: «Стыдно признаться; но я... я непростительно счастлива. Со мной случилось что- то волшебное, как сон, когда сделается страшно, жутко, и вдруг проснешься и чувствуешь, что всех этих страхов нет. Я проснулась. Я пережила мучительное, страшное и теперь уже давно, особенно с тех пор, как мы здесь, так счастлива!» (8, 198).
Дайте мне морфину. Доктор! дайте мне морфину» (7, 457). Упоминание медицинского препарата одновременно является антологической аллюзией, скрытым мифономом. Морфей - бог счастливых снов, один из трёх сыновей Гипноса. Братом Гипноса является Танатос, божество смерти. Получается, что в момент болезни у постели Анны представлена не только борьба и примирение двух Алексеев, но и соперничество Гипноса и Танатоса. Так продолжает обнаруживаться приём двойничества, проходящий через поэтику романа. Но власть Г ипноса реализована не только через «волшебный сон» (8, 198), античные источники упоминают о том, что у него были еще два сына: Фантаз и Фобетор. Первый посылал сны о превращениях в животных, другой - сны-кошмары. Увлечение опиумом, который Анна принимает от бессонницы, не может спасти Анну от сна- кошмара.
Во внутреннем мире Анны так слоисто перемешаны сон и явь и границы между ними очень проницаемы. Эта проницаемость сна и яви представлена в разговоре с мужем, который хочет предотвратить уход жены в счастливый сон, и в разговоре с Вронским, который, напротив, хочет удержать Анну в счастливом сне и не пустить в явь. Возвращение в Петербург, свидание с сыном нарушают счастливый сон. Она начинает подозревать в охлаждении Вронского, а тот моментами не понимает её. «Анна, ради бога, что с вами»,- сказал он, будя её, точно так же как говорил ей когда-то её муж» (8, 122). Осуществление сна наяву порождает сон о другой стороне реальности, и тогда реальность начинает двоиться.
Толстой намеренно указывает читателю на необходимость соотнести две реплики. Сравним два диалога.
Часть 2, глава 9
Увидав мужа, Анна подняла
как будто просыпаясь,
улыбнулась.
- Анна, я должен предостеречь тебя, - сказал он.
- Решительно ничего ,- сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно, - подумала она.- Но в обществе заметили, и это тревожит его». - Ничего не понимаю. Ах, боже мой, и как мне на беду спать хочется! - сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки.
- Анна, , не говори
так, - сказал он кротко. (7, 163165).
вича и для его жены (7, 166).
Часть 5, глава 32
Она как будто не понимала значения его слов.
ради бога, что с вами,
- сказал он, будя её, точно так же »
- Я не понимаю, о чем вы
спрашиваете.
- Вы знаете, что нельзя ехать.
- Чувство мое не может измениться, вы знаете, но я прошу не ездить, умоляю вас, - сказал он опять по-французски , но с холодностью во взгляде. (8, 122)
Вронский в первый раз испытывал против Анны чувство досады, почти злобы за ее умышленное непонимание своего положения (8, 123).
Уходя от прямого разговора с мужем, Анна прячется то в сон новой тайной жизни, то в биологический сон. Введение онейрического мотива в сцене с мужем, а потом и в сцене с Вронским - знак начала перелома в отношениях героев. В первой ситуации Анна из обычной устоявшейся жизни перемещается в сон-мечту любви и счастья, а во второй - наоборот. Ведь осуществление мечты порождает сначала сон-кошмар о двух мужьях, а потом возрождается и в своей ужасной сущности сон-фантасмагория, который начинал сниться ей в поезде из Москвы.
Ситуация сна/бессонницы встречается при описании отдельных эпизодов жизни Вронского. Нарушение его здорового сна совпадает или с моментами эмоционального подъема (в поезде), или кризиса. Так, перед неудачным самоубийством он пытается заснуть, «проваливается в пропасть забвения» (7, 460) и вскакивает с широко открытыми глазами, «как будто он никогда не спал» (7, 460). Типологически он оказывается в почти гамлетовской ситуации умереть-уснуть, которая аллюзивно оживает. Обратим внимание на повтор: «Заснуть! Забыть!»; «Заснуть! заснуть!»; «Он всё лежал, стараясь заснуть...»; «Что это? или я с ума схожу?»; «Нет, надо заснуть!»; «Это кончено для меня...»; «Так сходят с ума, - повторил он, и так стреляются.»; «Разумеется»; «Разумеется, - повторил он, когда в третий раз мысль его направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыслей» (7, 460-461). Самоубийству Анны тоже предшествует череда бессонниц и мысль «Что это, я с ума схожу» (8, 352).
Ивановны и позже узнает, что теперь решение его вопроса зависит от шарлатана-ясновидящего, который дает советы во сне. Француз Landau присутствует при визите и разговоре, и вся эта комедия совершенно сбивает с толку Стиву. «Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла, и потною рукой, лежавшею на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьич встал тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на того, то на другого. Все это было наяву. Степан Аркадьич чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо» (8, 333). Он так и уезжает, не поговорив о деле сестры, а позже получает «положительный отказ о разводе», который, как он понял, «сказал француз в своем настоящем или притворном сне» (8, 334). Толстой не случайно предваряет главу о ясновидящем рассуждениями Стивы Облонского о Москве и Петербурге и мыслями шестидясятилетнего князя Петра Облонского о сопоставлении России и заграницы. Но после всего происшедшего даже Стива чувствует «что-то постыдное» от этого вечера, где «все было гадко», «был не в духе, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть» (8, 334). Эта бессонница Стивы имеет не только физиологический, но и духовный смысл. Соотнесенность прямого и переносного значения этих состояний присутствует в дневниках Толстого и пройдет через весь его третий роман без снов, каким можно назвать «Воскресение». Состояние такого пробуждения- прозрения испытывает Левин в последней части романа: «Как бы пробудившись от сна, Левин долго не мог опомниться. <. > Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие» (8,401).
3.2.3. Сон Анны о двух мужьях и архетип двойничества. Неоднократно отмечалось, что мотив раздвоения играет важную роль в сюжете романа и при понимании образа Анны. На уровне онейропоэтики его вводит сон о двух Алексеях. Вступлению Анны и Вронского «в новую жизнь» (7, 168) сопутствуют «стыд, радость и ужас» от создавшейся ситуации, которая заставляет их лгать. Описание первого сна героини автор начинает с уступительного союзного слова «зато». Исполнению желаний наяву противостоят мучения во сне. «Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом» (7, 169).
Этот сон можно отнести к осознанным сновидениям, ведь Анна в нём удивляется, что она весела и даже смеется. Мы наблюдаем раздвоение героини на грани сна и яви. Позже в романе Бетси будет говорить с Анной об отношениях Лизы Меркаловой и Стремова и, как бы обучая Анну двойной светской морали, поясняет: «Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из неё мученье, и смотреть просто и даже весело, Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически» (7, 332).
Этот сон Анны чувственными и эротическими картинами соотносим с открывающим роман сновидением ее брата. Не случайно Стива думает в своем сне: «да, хорошо было, очень хорошо», а в сне Анны муж говорит: «как хорошо теперь».
Оба сна представляют картинки в стиле барокко или ампир. Но для Анны вариант, который подсказывает ей сон, представляется отвратительным. Поэтому рефлексия сна героиней позволяет увидеть толстовский прием противопоставления персонажей. В этой же второй части романа в разговоре с Левиным Облонский, рассказывая о своих предпочтениях в любви, произносит: «Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин оссиановских... женщин, которых видишь во сне... Вот эти женщины бывают наяву... и эти женщины ужасны» (7, 182). Эта фраза тоже свидетельствует о несходстве сестры и брата, но одновременно содержит намек на то, что и Стива не чужд романтических страстей. Героини поэм Оссиана верны одной любви, и «все героини либо кончают с собой, либо просто умирают, получив весть - правдивую или ложную - о смерти любимого» [32, 491]. В этом отношении Анна - настоящая романтическая героиня, а её следующий сонкошмар развернут в картинах в стиле готического романтизма.
Сновидение о двух мужья узнаваемо и пророчески оживает в сцене примирения Каренина и Вронского у постели умирающей Анны, когда она соединяет руки двух Алексеев, а муж рыдает у ее кровати. «Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок». «Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем. - «Подай ему руку. Прости его». Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз (7, 456-457). Но взаимоотношение мужей наяву иные, чем в сновидении. Да и Анна в бреду говорит о своем раздвоении: «Не удивляйся на меня. Я все та же... Но во мне есть другая, я ее боюсь - она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся. <...> Она держала одною горячею рукой его руку, другою отталкивала его» (7, 456).
Даже Каренин раздваивается и после выздоровления Анны готов допустить возможность двойных отношений, чтобы сохранить семью: «Он считал, что для Анны было бы лучше прервать сношения с Вронским, но, если они все находят, что это невозможно, он готов был даже вновь допустить эти сношения, только бы не срамить детей, не лишаться их и не изменить своего положения» (7,470).
Состояние раздвоения Анна начинает переживать в поезде («Я сама или другая» (7, 115). После признания в неверности мужу Анна «чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться, как двоятся иногда предметы в усталых глазах» (7, 321). Автор еще дважды делает акцент на этом состоянии («опять она почувствовала, что в душе у ней начинало двоиться» (7, 323); «она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться» и «испугалась опять этого чувства» (7, 327), когда, проснувшись на следующее утро, Анна хочет написать письмо «им обоим» (7, 323) и уехать. Визуализации раздвоения Анны способствует картина Михайлова, которая вбирает и увековечивает лучшее в ней. Но далее Анна продолжает отдаляться от себя. После отъезда Долли она чувствует, что «лучшая часть ее души зарастает» (8, 230). «Она знала, что теперь, с отъездом Долли, никто уже не растревожит в ее душе те чувства, которые поднялись в ней при этом свидании. Тревожить эти чувства ей было больно, но она все-таки знала, что это была самая лучшая часть ее души и что эта часть ее души быстро зарастала в той жизни, которую она вела» (8, 230). Свое состояние Анна называет «между небом и землей» (8, 335). Это состояние между волшебным сном и кошмаром, которым теперь представляется ей реальность.
Перед самоубийством Анна не узнает себя. «Она была причесана и не могла вспомнить, когда она это делала. «Кто это?» - думала она, глядя в зеркало на воспаленное лицо со странно блестящими глазами, испуганно смотревшими на нее. «Да это я», - вдруг поняла она, и, оглядывая себя всю, она почувствовала на себе его поцелуи и, содрогаясь, двинула плечами. Потом подняла ее» (8, 352). Эта ситуация рифмуется с ситуацией второй части одиннадцатой главы, где описана сцена страсти: «И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи - то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, - рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее» (7, 168).
Второй сон Анны содержит сон во сне - предсказание камердинера Корнея о том, что она умрет родами. Но это предсказание не осуществилось. Анна проходит через смерть- инициацию. Рождение дочери (здоровенькая девочка), получившей имя Анны, знаменует новый этап раздвоения. Роды и болезнь Анны, во время которой она оказывается на границе между жизнью и смертью, архетипически связаны с ситуацией инициации: одна Анна умирает, а другая рождается. И эта другая полна жажды жизни и наслаждения. Дочь, получающая имя Анна, - это тоже реализация архетипа двойничества. Казалось бы, она должна связать Анну с Вронским, но для нее и для него дочь, носящая фамилию Каренина, указывает на их прошлое. Не случайно, в конце романа сообщается, что Каренин воспитывает сына и дочь жены. Отдаление от детей тоже свидетельство того состояния, которое Анна отмечает в себе. Долли она признается: «Я не могу их соединить, а это мне одно нужно. А если этого нет, то все равно. Все, все равно. И как-нибудь кончится, и потому я не могу, не люблю говорить про это» (8, 229). Существенно важно, что в период болезни Анны именно Каренин привязался к девочке. «Но к новорожденной маленькой девочке он испытывал какое-то особенное чувство не только жалости, но и нежности. Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою новорожденною слабенькою девочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болезни матери и, наверное, умерла бы, если б он о ней не позаботился, - и сам не заметил, как он полюбил ее» (7, 463). Девочка Анна как бы компенсаторно замещает собой жену Анну в мире Каренина. Не случайно она после смерти матери возвращается в дом Каренина.
и Ганна, девочка- англичанка, воспитанием которой занимается Анна в седьмой части романа. Квадрат вариативных имен позволяет соотнести четыре судьбы. Об Аннушке в 7 части сказано «потолстевшая, спокойная» (8, 353). Особенно необычно то, что Анна приближает семью англичанки и увлечена её дочерью Ганной. Получается, что чужая девочка оттесняет свою дочь. «Мне неинтересно ваше пристрастие к этой девочке, это правда, потому что я вижу, что оно ненатурально», - говорит ей Вронский (8, 336).
Прием двойничества реализован в поэтике романа и через мотив тени. Он возникает во время диалога Анны и Вронского у вагона поезда в метель. «Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались стуки молотка по железу». «Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз» (7, 116). Первый мотив будет связан со сновидением, второй - с образом Вронского. В шестой главе второй части в гостиной Бетси обсуждают Карениных, жену и мужа. «Анна очень переменилась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное, - говорила ее приятельница. - Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского,- сказала жена посланника. - Да что же? У Гримма есть басня: человек без тени, человек лишен тени. И это ему наказанье за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказанье. Но женщине должно быть неприятно без тени. - Да, но женщины с тенью если все влюблены в нее и, как тени, ходят за ней? - Да я и не думаю осуждать, - оправдывалась приятельница Анны. - Если за нами никто не ходит, как тень, то это не доказывает, что мы имеем право осуждать» (7, 152-153).
Зловещий образ тени появляется в седьмой части. «Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю склянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучаться, раскаиваться и любить ее память, когда уже будет поздно. Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка и на захватывающую часть его тень от ширмы, и живо представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет и она будет для него только одно воспоминание. «Как мог я сказать ей эти жестокие слова? - будет говорить он. - Как мог я выйти из комнаты, не сказав ей ничего? Но теперь ее уж нет. Она навсегда ушла от нас. Она там...» Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу; на мгновение тени дрожащими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла. «Нет, все - только жить! Ведь я люблю его. Ведь он любит меня! Это было и пройдет», - говорила она, чувствуя, что слезы радости возвращения к жизни текли по ее щекам» (8, 348).
Мотив тени появляется и в момент самоубийства. «Туда! - говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, - туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя» (8, 366).
Мотив тени многозначен. Во-первых, он символизирует теневой сюжет её жизни, который она не может и не хочет удержать в тайне. Тень - это юнгианский архетип её второго я. Тень - это воплощение ужаса смерти, это вестник из мира теней, то есть того, что находится по ту сторону жизни. Мотив тени в соотнесенности с мотивами темноты, черноты, мрака, холода противопоставлен в романе мотивам света, огня, тепла.
Эволюция образа Анны в романе развивается не через созидание, а через раздробление своего единого я. Она двоится и как бы режет себя по живому еще до того, как ее разрежет поезд.
или думать о моих двух мужьях?» (8, 361).
Удвоение ситуаций и параллелизм характерны для линий Анна - Левин, Каренин - Вронский, семья Стивы и семья Каренина, сны - романная явь. Самоубийство Анны и поведение Вронского в последней части тоже рифмуются между собой и с их разделенным сновидением.
3.2.4. Разделенное сновидение, но вариативный онейрический текст Анны-Вронского. Сон Вронского включен в четвертую часть романа. Его видят в разное время Вронский и Анна. Рассмотрим мужской вариант этого сна, который дан первым. Ему присущи все признаки устного онейрического дискурса. Он представлен как процесс припоминания в момент мгновенного пробуждения.
Вронский приставлен сопровождать иностранного принца и показать ему экзотику русских развлечений. В обязательный ритуал входит охота на медведя. Эта обязанность тяготит Вронского, но, наконец, проводив гостя на седьмой день, он после бессонной ночи возвращается домой. «Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. «Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, - сказал он себе. - Но отчего же это было так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. «Что за вздор!» - подумал Вронский и взглянул на часы. Была уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучась только тем, что опоздал» (7, 394).
«проснулся в темноте, дрожа от страха»; «отчего же это было так ужасно»; «ужас пробежал холодом по его спине». Страх переходит в бессознательный и неуправляемый ужас. Вронский тушит его словом «вздор», которое характерно для его лексикона и речевого поведения. В сцене разговора с Анной, когда она рассказывает свой сон, он прерывает ее и четырежды повторяет слово: «Что за вздор!»; «Ах, какой вздор!»; «Какой вздор, какой вздор!» (7, 400-401). Вронский называет вздором то, что он не может понять и чему не может найти здравого объяснения. Непонятное вызывает у него ужас. До сна сказано, что припадки ревности Анны «ужасали его» (7, 397). Эта ревность ему так же непонятна, как и сновидение. Заметим, что Анна называет вспышки ревности «бесом» («Я прогнала, прогнала беса, - прибавила она. Бесом называлась между ними ревность» (7, 397). Нельзя не вспомнить, что еще ранее, на балу Кити замечает: «Что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней» (7, 96). Можно предположить, что через сон Вронский почувствовал столкновение с чем-то потусторонним. Мужик- обкладчик совершает ритуал над зверем и потому опасен для него, но во сне страх испытывает не зверь, а Вронский. Получается, что через сон Вронский получает предупреждение и тут же забывает о нем.
Но перейдем к сну Анны. Его дискурс построен сложнее. Сновидение передано через внешнюю речь в процессе диалога. Так как Вронский узнает в нем и свой сон, то получается, что адресант направил сон двум адресатам, но каждый редактировал онейрическое послание и превращал его в вербальный текст в соответствии с собственными ассоциациями и пониманием. Но мужской и женский варианты сна имеют существенные различия: различаются, во-первых, социальный статус и род занятий главного образа сновидений; во-вторых, место действия.
«Я видела сон. - Сон? - повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. - Да, сон, - сказала она. -
Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то; ты знаешь, как это бывает во сне, - говорила она, с ужасом широко открывая глаза, - и в спальне, в углу, стоит что-то. - Ах, какой вздор! Как можно верить... Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее.- И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенною бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там... Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. - Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро и, знаешь, грассирует: «Il faut le battre le fer, le broyer, le petrir... [33] « И я от страха захотела проснуться, проснулась... но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка...» И я проснулась... - Какой вздор, какой вздор! - говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе» (7, 400-401).
Сон Анны - это сновидение с наращением, которое включает сон во сне. Это предсказание Корнея не исполнится, и значит сон содержит реальное и ложное пророчество. Первое дано в иносказательной форме, второе - прямой речью. То, что ложное предсказание исходит от Корнея, не случайно. Как камердинер мужа он замещает его во сне и тоже вызывает у Анны страх. Мы видим в тексте романа, что состояние страха в душе Анны начинает нарастать: Анна боится мужа и боится объяснения («Вот оно, объяснение», - подумала она и ей стало страшно» (7, 236); слова признания мужу в неверности на другое утро «показались ей так ужасны» (7, 320), но и письмо, полученное от мужа, «представлялось ей ужаснее всего, что только она могла себе представить» (7, 325); «и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится» (7, 327). И, конечно, Анна испытывает страх и ужас от возможной физической близости с мужем (7, 355-356), когда он, смеясь, «злым и холодным смехом» произносит: «Впрочем, не понимаю, как имея столько независимости, как вы, объявляя мужу прямо о своей неверности ... вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены» (7, 356). Выйдя на чистый воздух, Анна «вздрогнула от холода и внутреннего ужаса» (7, 323). Получается, что состояние ужаса наяву не только переносится в сон, но и персонифицируется в образе мужика. Учитывая важность для онейропоэтики Толстого звуковой ауры сновидения и создания для каждого персонажа особого индивидуального кода нейролингвистических знаков, следует обратить внимание на созвучие слов мужик-муж, Корней- Каренин. Мужик находится в спальне - это пространство теперь закрытое для мужа, и оттого она так испугана вторжением. Мужик - персонифицированный символ ужаса, и ужас сообщается даже мужественному Вронскому, который, по замечанию автора, в присутствии Анны «не имел своей воли».
а весело».
«На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? «Что там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось... Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась; она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор» (7, 115). В этом первосонии есть образы того сна-кошмара, который так напугает Вронского.
В рассуждения В.Набокова о «двойном кошмаре» (так он называет сновидение Анны и Вронского) вплетаются и собственные наблюдения В.Набокова над природой сновидений. «Мы должны уяснить, что сон - это представление, театральная пьеса, поставленная в нашем сознании при приглушенном свете перед бестолковой публикой. Представление это обычно бездарное, со случайными подпорками и шатающимся задником, поставлено оно плохо, играют в нем актеры-любители. Но в данный момент нас интересует то, что актеры, подпорки и декорации взяты режиссером сна из нашей дневной жизни. Некоторые свежие и старые впечатления небрежно и наспех перетасованы на мутной сцене наших снов. Время от времени пробуждающийся мозг обнаруживает островок смысла во вчерашнем сне; и если это нечто очень яркое или хоть в чем-то совпадающее с глубинными пластами нашего сознания, тогда сон может составить единое целое и повторяться, возобновляться, что и происходит у Анны» [30, 256-257]. В.Набоков считает, что сны «похищены из нашей дневной жизни, но приняли новые формы и вывернуты наизнанку экспериментатором-постановщиком, а вовсе не венским затейником».
В двойном сновидении, действительно, многое «похищено» из двух дневных жизней. Представим эволюцию сквозного, повторяющегося вариативного образа сновидения в сознании Анны. Обратим внимание на то, какие метаморфозы совершаются над главным образом кошмара: мужик этот с длинною талией - мужик маленький с взъерошенною бородой и страшный - старичок-мужичок с взлохмаченной бородой - мужичок. И.Г. Фюсли.
Трансформируется характер его действий: грызет - нагнулся над мешком, копошится, приговаривает - что-то делал над железом, приговаривая; делает это какое-то страшное дело в железе над нею - приговаривая что-то, работал над железом. Мешок сменяется железом. Это породило подробно аргументированное предположение исследователей о том, что «образ мужика в романе может быть непосредственно соотнесен с фольклорно-мифологическим образом кузнеца» [34, 139]. Исследователи указывают на связь между образом железа и железной дорогой, между красным мешочком на руке Анны и мешком. B.Lonnqvist пишет: «Слова мужика во сне Анны о том, что железо надо «месить», сложным образом сочетаются с выпеканием хлеба - с «брачной связью». Мужик не только кует, но и творит то «тесто» (железо), из которого печется союз Анны с Вронским. Однако, действие мужика происходит в «мешке», он там «копошится», т.о. вмешивается в интимное пространство Анны, орудует там. Мешок - это своего рода огненное горнило, горн, где встречается мужская ковка железа с женским выпеканием хлеба и где зарождается новая жизнь» [35, 200-201]. B.Lonnqvist рассматривает мешок как контаминацию горна и утробы, метафору огня-страсти, а мужик-кузнец «кует-печет железо судьбы Анны».
Неоднократно отмечено, что сновидение героев сопровождает образ свечи. Вронский, просыпаясь, дрожа от страха, поспешно зажигает свечу (7, 394). В момент самоубийства героини тоже сцепляются работающий над железом мужичок и потухающая свеча. Получается, что аура сновидения и в прямом и в метафорическом плане принадлежит тьме, темноте, мраку.
Москвы. Обратим внимание еще на один возможный прообраз. В последнем варианте сна страшный образ получает название «старичок- мужичок» (8, 349). И тем самым перекликается с образом «старичка» из сновидения в рассказе «Метель». Этому старичку герой рассказа целовал руку (1, 504), но во сне Анны «старичок-мужичок» нагнулся над мешком и «руками что-то копошится там» (7, 400), а в «Метели» старичок «копошился около саней» (1, 508). Повторяющийся вариативный сон как бы прошивает текст и сюжет большого романа, а его образы (страшный мужик/мужичок/старичок, железо, мешок/ мешочек, французская речь, пространство спальни, угол, ужас, темнота и свет, камердинер Корней) неоднократно возникают в романной яви. Символика сновидения связана не только с античными мифонимами, но и с образами христианского ада. Не случайно после возвращения Анны из Москвы муж сообщает ей, что читает «Duc de Lille, «Poesie des enfers» (7, 126) [36]. Мужик в сновидении Анны произносит: «Il faut le battre le fer, le broyer, le petrir...» (7, 400). Обратим внимание на родство и созвучие слов «le fer» (железо) и «enfer» продолжение своей жизни с Вронским, как ад (8, 361).
Обратимся к нумерологии, окружающей онейрический эпизод. Вронский, наконец, на седьмой день избавился от принца. Анна просит Вронского приехать и сообщает в записке, что муж в 7 часов едет на совет. Вронский, который не спал ночь, случайно заснул, проспал и видел сон. Ранее на скачках Вронскому достался «7 нумер» (7, 217) и скакало 17 человек (7, 219). До скачек он был у Анны и после свидания, «только отъехав верст семь», посмотрел на часы (7, 214). Эта цифра семь, которая окружает онейрический эпизод, видимо не случайна и вызывает ассоциации с событиями после сотворения мира, а значит и с историей грехопадения.
Но для выявления понимания толстовской поэтики «сопряжения» важно соотнести таинственную французскую речь мужика и фрагменты повествования. Гендерная противоречивость услышанной Анной фразы состоит в том, что первая её часть маскулинная (мужская), а в трех последних словах представлена женская тема, перифрастически связанная с тестом. В девятой главе четвертой части романа описан обед в доме Облонских. Стива задерживается, а жена «не сумела без него хорошенько перемешать все это общество». «В одну минуту он так , что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно зазвучали» (7, 422).
Главный образ сновидения - это мужик/мужичок/ста- ричок, он же истопник в вагоне и обкладчик на охоте. Он совершает какие-то непонятные действия и этим внушает ужас. Он предстает как сказочно-мифологический персонаж, воплощение рока и губительной силы. Но его борода и одежда свидетельствуют о принадлежности к народу, недворянскому классу. Мужик - это одна из главных идеологем в творчестве Толстого. С его образом связана идея дворянской вины и ожидание возмездия. В сновидении барина в рассказе «Метель» этот образ играет важную роль. Вводя образ мужика в сновидение Анны и Вронского, Толстой делает его символическим воплощением наказания не столько этического, сколько социального. Кроме того, через него реализован страх, живущий в душе самого Толстого. Важно обратить внимание на то, что для Анны страшнее всего то, что старичок- мужичок «не обращает на нее внимания, но делает это какое- то страшное дело в железе над нею». Обратим внимание и на трансформацию образа: в ранних сновидениях это мужик, а в последнем старичок-мужичок. Французские слова воспроизведены только раз, позже становятся важны поза и действие. Ясно, что французская фраза адресована сновидцам (Вронскому и Анне). Гротесковое соединение облика мужика и французской фразы для Анны особенно непонятно и потому ужасно вдвойне.
Номинация «мужик» очень часто встречается в романе. Если у Анны и Вронского ужас перед мужиком в сновидении соседствует с снисходительным и равнодушным отношением к реальным мужикам (начиная с первой сцены на вокзале и далее в сценах в деревне), у Левина совсем иное отношение к мужикам и к их словам. Особенно это характерно для восьмой части романа. Приведем некоторые фрагменты. «Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика своим светом» (8, 394). «Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его» (8, 395). «Откуда у меня радостное, общее с мужиком знание, которое одно дает мне спокойствие души? Откуда взял я это?» (8, 399). «Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков - со всеми, с , с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим» (8, 400).
Сложная система образных связей в романе построена так, что у каждого из главных героев есть свои отношения с мужиком. Есть они и у Каренина. В третьей главе четвертой части Анна рассказывает свой сон, а в пятой главе описан визит Каренина к «знаменитому петербургскому адвокату». Толстой дает портретное описание, отдельные черты которого заставляют вспомнить кошмар Анна: «Адвокат был маленький. коренастый, , светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряден, как жених, от галстука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд франтовской и дурного вкуса» (7, 405). Сознание читателя выхватывает в этом портрете три детали: маленький, с бородой и мужицкое - которые характерны и для персонажа сновидения. Для Каренина визит к адвокату - это унижение, позор. Скрытый страх Каренина и бессилие перед этим адвокатом переданы и через другую фразу: «Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости, и Алексей Александрович видел, что тут была не одна радость человека, получающего выгодный заказ, - тут было торжество и восторг, был блеск, похожий на тот зловещий блеск, который он видал в глазах жены страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет» (7, 238) тоже связаны с огнем, жаром, а значит и с адской аурой сновидения.
Получается, что мужик/мужичок из сновидения связан со многими реальными персонажами романа, но существует и как образ уникальный и особенный, который соотносится с мифологическими, инфернальными, фантастическими образами.
Вронский после смерти Анны все еще адресат-носитель дискурса сна. Он дважды адресат, который сам получил сон и который услышал рассказ об этом сне от любимой женщины. Он едет на войну умирать. Известно, что мифологемы война и охота в мире Толстого тесно соотнесены (на это неоднократно указывали исследователи при сопоставлении сцен охоты и военных событий в романе «Война и мир»). Тогда сон о мужике-обкладчике и Вронскому предрекает смерть. В пятой главе восьмой части он говорит Кознышеву: «Я, как человек тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел» (8, 379). Фрагмент из трех глаголов («врубиться в каре и смять или лечь») ритмически перекликается с французской фразой, которая теперь обращена к Вронскому (Il faut le battre le fer, le broyer, le petrir... - Надо ковать железо, толочь его, мять (месить)).
Обратим внимание и на то, что Толстому важно подчеркнуть, что образы сна-кошмара посетили Анну после знакомство с Вронским, но задолго до морфина. Это уже позже она принимает морфин, чтобы заглушить внутренние мучения. Долли она говорит: «Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина» (8, 228). «Анна между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени неподвижно, успокоенная, с спокойным и веселым духом пошла в спальню» (8, 229). «И так же как прежде, занятиями днем и морфином по ночам она могла заглушать страшные мысли о том, что будет, если он разлюбит ее» (8, 256). «Вечер прошел счастливо и весело при княжне Варваре, которая жаловалась ему, что Анна без него принимала морфин» (8, 258). В последний раз навязчивый сон Анна видит перед самоубийством. Толстой сообщает, что перед этим сном она, мучась бессонницей, дважды принимала опиум, чтобы уснуть: «к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя» (8, 349). Даже сквозь дурман сон прокрался в ее память. Отправляясь на вокзал, Анна, как бы зомбированная сном и удвоенной дозой, ложится под поезд. И последний раз образ сна возникает в тексте в момент смерти Анны: «Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло её в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне всё!» - проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом» (8, 366).
3.2.5. «Что-то» и вербальная неопределенность оней- рического. паузы колебания, порождаемых выпадением из памяти каких-то подробностей, связок и событий.
Напомним фрагмент сна Стивы: ««Да, да, как это было? - думал он, вспоминая сон. - Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, - и столы пели: Il mio tesoro, и не Il mio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», - вспоминал он» (7, 5-6).
В процессе оформления речевого дискурса сновидения обратим внимание на повтор неопределенного местоимения «что-то» во всех вариантах сновидения Анны и Вронского.
Сон в вагоне
Мужик этот с длинною талией огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело.
Рассказы Вронского и Анны о снах
Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик- обкладчик, кажется, маленький. грязный, со взъерошенной бородкой. что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова.
мужик маленький с взъерошенною бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там...
Сон перед самоубийством
Старичок-мужичок с взлохмаченной бородой мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею.
Воспоминание о сне
«Что-то знакомое в этом е». - подумала Анна. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери.
Образы сна в момент смерти
Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло её в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне всё!» - проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок
Повторяющееся ЧТО-ТО представляется и местоимением, и фразой, и антропоморфным образом, и олицетворением непознанной силы, невыразимой словами, внушающей ужас. Это ЧТО-ТО является важнейшим элементом онейрического дискурса, который существенно, фантастически и мистически преображает реалистический компонент образов сновидения. Можно сказать, что компонент ЧТО-ТО превращает образ мужика в многозначный символ, родственный таким фольклорно-мифологическим персонажам, как: мужичок- с-ноготок, кузнец, Гефест, колдун, гном, разбойник, лемур, бес и демон. ЧТО-ТО - это ужас и нечистая сила. Этот образ поселяется в душе Анны и разрушает ее Я. Может быть, это трикстер, злой шут, оборотная сторона её Анимуса, которого в жизни воплощают муж и Вронский, два Алексея. Не случайно этот онейрический образ входит в её сновидения вместе с началом романа с Вронским и ужасом отношений с мужем. Видимо, не случайно в начале романа Кити на балу думает об Анне: «Что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней» (7, 96). «Ёе блеск обжег его» (7, 96) - так в это же время охарактеризовано воздействие Анны на Вронского.
Сон о мужике в романе не просто повторяется, он проясняется, конкретизируется. Важно обратить внимание на нарастающий кошмар онейрического текста, своеобразную градацию, переводящую сновидение в действительность и опять превращающую ее в сон. Этот сон существует как вариативный речевой дискурс и единый онейрический текст. Герои движутся внутри себя к его прояснению. Восстановим варианты этого сна, вытянутые в линейной последовательности текста романа. Анна в вагоне сначала не понимает его зловещего смысла, а воспринимает как что-то веселое (часть 1). Вронский, вспоминая сон, не понимает слов, которые говорит мужик, и видит в нем обкладчика на охоте (часть 4). Анна не только конкретизирует образ мужика, но и повторяет французские слова (часть 4). При повторе сновидения в 7 части Анна уже уверена, что он делает что-то страшное над нею. После гибели Анны мистическая аура онейрического текста окружает теперь уже Вронского (8 часть). Вариативность главных образов сновидения, переданная благодаря речевому дискурсу, позволяет утверждать, что сон Анны-Вронского как бы не имеет окончательного, канонического текста, и это высшее достижение Толстого в области передачи поэтики онейрического.
* * *
сон самому себе, Анна и Вронский пересказывают свои сны в диалоге, но первый сон Анны дан нам от лица нарратора, так же, как и последнее видение. Сон Стивы стягивает музыкальные мотивы романа и задаёт им изящную, чувственную и эпикурейскую семантику. Сон Анны концентрирует эмоции стыда (сон о двух мужьях), а сон Анны-Вронского - ужаса/ страха, рассеянные по тексту романа. Мотив стекла (поющие стеклянные столы и женщины-графинчики во сне Стивы) и мотив железа (сон Анны) контрастны, так же как контрастны эти «какие-то маленькие графинчики, и они же женщины» и страшный мужик с взъерошенной бородой. Звуковой контраст сновидений соседствует с контрастом образов и стилей: барочным ампиром сна Стивы и готическими кошмарами сна Анны. Психолингвистический и нейролингвистической код сна Анны построен на перенесении из яви в сон звуковых морфем: муж - мужик, мужичок; Каренин - Корней; «enfer» (ад) - «le fer» (железо). Важно и то, что лингвистическая передача сновидения у Толстого содержит глаголы, которые встречаются в тексте нарратива или речевых зонах персонажей романа. И это сопрягает онейрический текст со всем текстом. Роман начинается с игривого сновидения, элементы которого воплощает в своей жизни Облонский, и завершается трагическим переносом в действительность сновидных состояний и картин Анны. В романе сон Облонского - это соннаслаждение, сон Анны о двух мужьях - это сон-искушение, разделенный сон Анны и Вронского - это сон-наказание, ад, который их ожидает уже при жизни.
3.3. Мотивы сна/пробуждения в романе «Воскресение»
«Воскресение» - роман без сновидений. Толстой-ху дож- ник отказывается от тщательно разработанного в двух предшествующих романах принципа изображения и характеристики внутреннего мира персонажей через их сновидения.
В основе художественной антропологии романа лежит декларируемое самим автором противопоставление «человека духовного» и «человека животного» [38; (10 ,57-58) ]. Состояние сна как периода бытового и биологического времени жизни в равной мере необходимо как человеку «животному», так и «духовному». В тексте и мире романа выделяется отдельный сюжет, связанный с мотивами физического сна-пробуждения и сопутствующими мотивами бессонницы, «тяжелого сна», «мертвого сна». При этом используемый Л.Толстым монтажный принцип позволяет установить некий ритмический параллелизм между образами Нехлюдова и Масловой. Роман состоит из трех несоразмерных частей. Барское пробуждение Нехлюдова от сна в начале романа ступенчато соотносится со всеми последующими пробуждениями в тексте и контрастно противопоставлено последней бессонной ночи воскресения. «Тема сна и пробуждения приобретает метафорическую форму в самом авторском повествовании», - пишет в своей монографии Э.Г.Бабаев [39, 150]. Он же условно выделяет в жизни Нехлюдова «три сна», главным действующим лицом которых является Катюша Маслова: «счастливый сон» их знакомства, «сон смятение» и «сон-прозрение» на суде [39, 143-151]. Но для нашего анализа важно рассмотреть художественные смыслы мотивов сна/пробуждения в тексте романа.
Обратимся к анализу текста первой части. Проследим синхронный ритм пробуждений в описаниях жизней Масловой и Нехлюдова. Первым представлено утро Масловой в тюрьме, далее утро Нехлюдова. Контраст и параллелизм, лежащий в основе художественного изображения этих сцен, неоднократно отмечался исследователями. В эти сцены вставлены ретроспективные главы, в которых описаны предшествующие эпизоды жизни героев. Так, речь идет о жизни Масловой в заведении: «Утром и днем после оргии ночи. В третьем, четвертом часу усталое вставанье <...> И только утром освобождение и тяжелый сон» (13-14). Сон «утром и днем» фактически означает подмену «тяжелым сном» дневной жизни. Повтор определения усиливает иносказательный смысл мотива «тяжелый сон», который становится метафорой образа жизни. Иносказательный смысл этого мотива усилен последующими фразами: «И так каждый день, всю неделю. <...>. И опять такая же неделя. И так каждый день, и летом и зимой, и в будни и в праздники» (14). При рассмотрении поэтики «сопряжения» Л.Толстого важно увидеть соотнесенность погружающей в сон духоты тюремного помещения и зала суда. «Она вдруг, входя в коридор, почувствовала усталость, и ей захотелось спатьзакрыл глаза. Купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, насилу удерживался от сна и изредка качался» (74). «Я » (84).
В ретроспективных главах, рассказывающих о развитии отношений Нехлюдова и Катюши, наоборот присутствуют амбивалентные мотивы описания состояний нежелания сна и бессонницы, которые испытывает как «духовный человек», так и «животный человек». «Часто по ночам, в особенности лунным, он не мог спать <.. > , иногда до рассвета ходил по саду с своими мечтами и мыслями» (48). Отсутствие у молодого Нехлюдова желания спать от чувства переполненности жизнью типологически сближает его с Наташей Ростовой, которая в лунную ночь в Отрадном не может спать и требует, умоляет, чтобы и Соня не спала тоже. Но одухотворенная любовью к Катюше «бессонная» пасхальная ночь заканчивается, Нехлюдов возвратился из церкви и «тотчас же заснул одетый» (62), а в следующую ночь в Нехлюдове бодрствует и побеждает «животный человек».
Состояние, в котором пребывает Нехлюдов после суда, получает в нарративном контексте романа название «чистка души» и «пробуждение». «С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл «чисткой души»; «всегда после таких Нехлюдов составлял себе правила»; «это было самое живое, восторженное пробуждение»; «потом такое же пробуждение пробуждение, когда он вышел в отставку»; «духовное существо <...> уже пробудилось в Нехлюдове»; «для то были слезы радости пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем» (109-110). Семикратный повтор в одной главе мотива, его смысловые вариации, а также повтор знаковых пейзажных мотивов (тишина, лунная ночь, яркий лунный свет) - свидетельства пережитого потрясения. Кульминацией этих размышлений становится фраза: «Бог, живший в нем, проснулся Все время этот я спал, и мне не с кем было беседовать. Пробудило его необыкновенное событие 28-го апреля, в суде, где я был присяжным» (137).
еще в эту ночь не могла заснуть Маслова, а лежала с открытыми глазами <...> Она вспоминала о многих, но только не о Нехлюдове. Это было слишком больно. Эти воспоминания где-то далеко нетронутыми лежали в ее душе. Даже во сне никогда не видала Нехлюдова» (137-138). Последняя фраза позволяет объяснить, почему в романе нет снов: они купированы даже на уровне подсознания. Перенесенная травма не позволяет заглянуть во внутренний мир Масловой через окно сновидений. Этот сон без сновидений, в который погружена душа Масловой, надо прервать. И в этом видит свой долг перед ней Нехлюдов. «Он чувствовал, что <.. > он желал только того, <...> чтобы она пробудилась и стала такою, какою она была прежде» (159-160). Но Толстому важно представить, что процесс пробуждения предполагает не только соучастие, но и активизацию собственных усилий и желаний героини. Так в мотивной поэтике романа устанавливается связь между понятиями пробуждения, забвения, памяти.
Сосредоточивая наше внимание на этой динамике пробуждения по цепочке, от героя к героине, автор одновременно представляет трудности этого процесса, в котором задана некая надличная типология возрождения человека вообще и важную роль играют мотивы сомнения и преодоления страха. «, Нехлюдов вспомнил все то, что было накануне, и ему стало страшно» (180). Путь пробуждения включает индивидуальную работу сознания, движение вперед и моменты временного отката/отступления назад, а в сюжетной поэтике второй и третьей частей романа он соотнесен с мотивами времени биологического сна. При этом время биологического сна имеет в контексте словесной семантики идиостиля Л.Толстого негативный смысл и позитивный. Негативный смысл связан с ситуацией бегства в сон - это способ получить передышку, забвение, уйти от мучительных вопросов бытия. Позитивный смысл связан с погружением в естественный сон после или накануне принятия важных нравственных решений.
Во второй части романа происходит развитие и углубление мотива пробуждения через изображение раздумий Нехлюдова. Эта внутренняя беспокойная нравственная работа представлена на фоне перемещений Нехлюдова во внешнем пространстве: он едет в свое имение, потом в имение тетушек, далее хлопотать по делу Масловой в Петербург, возвращается в Москву, встречается с сестрой, чтобы уладить все дела перед поездкой в Сибирь. Отъезд усиливает его колебания, сомнения. Уже в первой главе второй части Нехлюдов хочет сном отогнать неразрешимые вопросы. «Чтобы избавиться от этих мыслей, он лег в свежую постель и хотел засн?ть<.. .><.. .>Сл?шая соловьев и лягушек, Нехлюдов вспомнил о музыке дочери смотрителя; вспомнив о смотрителе, он вспомнил о Масловой, как у нее, так же, как кваканье лягушек, дрожали губы, когда она говорила: «Вы это совсем оставьте». Потом немец-управляющий стал спускаться к лягушкам. Надо было его удержать, но он не только слез, но сделался Масловой и стал упрекать его: «Я каторжная, а вы князь». «Нет, не поддамся», - подумал Нехлюдов, и очнулся, и спросил себя: «Что же, хорошо или дурно я делаю? Не знаю, да и мне все равно. Все равно. Надо только спать». И он сам стал спускаться туда, куда полез управляющий и Маслова, и там все кончилось» (213-214). Это единственный эпизод в тексте романа, в котором представлена известная читателю по двум предшествующим романам онейропоэтика Толстого. Воспоминания сливаются со звуками и деталями реального мира в картинах первосония. Описание засыпания Нехлюдова похоже на описания сновидений братьев Ростовых, сны Пьера и сновидение Анны и Вронского. И ночь после встречи с мужиками была для Нехлюдова бессонной: «К утру заснул и проснулся поздно» (239).
Другая, уже петербургская, бессонница Нехлюдова вызвана его колебаниями и соблазном вернуться к удобствам прежней жизни. «В эту ночь <...> он . <...>Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжелым сном, которым он, бывало, засыпал после большого карточного проигрыша» (304). Этот «тяжелый сон» Нехлюдова естественно ритмически соотнесен с «тяжелым сном» жизни в заведении из прошлой жизни Масловой. Через этот повторяющийся мотив Л.Толстой уравнивает определенные фазы жизни, пройденной героями романа.
Но начало двадцать пятой главы ознаменовано желанием преодолеть этот «тяжелый сон». «Первое чувство Нехлюдова, на другое утро, было то, что он накануне сделал какую-то гадость.<...> Вчерашний соблазн представился ему теперь тем, что бывает с человеком, когда он разоспался, и ему хочется хоть не спать, а еще поваляться, понежиться в постели, несмотря на то, что он знает, что пора вставать для ожидающего его важного и радостного дела» (305). Введенное в текст сравнение, во-первых, является парафразом сцены пробуждения Стивы Облонского в начале романа «Анна Каренина», а во-вторых, представляет мотив физического сна как контрастный мотиву пробуждения. В последний день пребывания Нехлюдова в Петербурге происходит встреча с бывшим товарищем. «Ну, что Питер, как на тебя действует, - прокричал Богатырев, - скажи, а? - Чувствую, что загипнотизировываюсьЗагипнотизировываешься? - повторил Богатырев и громко захохотал» (311). Этот неологизм вводит мотив гипноза как проявления неосознаваемого человеком воздействия властного божества сна и забвения. В греческой мифологии Гипнос - брат-двойник бога смерти Танатоса. Сон, который он посылает, не несет сладкого успокоения в отличие от сна, который дарит его сын Морфей. Визит в театр и последующие размышления о «животности зверя в человеке» приводят Нехлюдова к окончательному разочарованию в гипнотической силе Петербурга. Вернувшись в Москву, Нехлюдов теперь сосредоточен на одной миссии. Укладывая вещи перед поездкой в острог, он находит в дневнике запись, последнюю перед поездкой в Петербург: «Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает» (342). В контексте романа «оживает» - это синоним глагола «пробуждается». Так мотив пребывания в забытьи, погружения в сон нагружается дополнительной семантикой.
глава, которая завершается фразой: «И на этих мыслях, уже после вторых петухов, несмотря на блох, которые, как только он шевелился, как фонтан, брызгали вокруг него, он заснул крепким сном» (435). Этот мотив «крепкого» физического сна явно противостоит встречающемуся ранее мотиву «тяжелого сна» и означает необходимый отдых перед дальнейшими испытаниями.
В конце романа Нехлюдову предстоит сопровождать мис- сионера-англичанина и выслушать последнее объяснение Катюши. «Он устал не от бессонной мгновенно заснул тяжелым, мертвым сном. - Что же, угодно теперь пройти по камерам? - спросил смотритель. Нехлюдов очнулся и удивился тому, где он» (456). Этот «мертвый сон» - последняя метаморфоза мотива сна в романе. Сон-гипноз роскошной жизни, тяжелый сон, не приносящий отдыха, крепкий сон, готовящий тело и душу к новым испытаниям и, наконец, мертвый сон как метафора смерти, после которой возможно только окончательное пробуждение, прозрение, откровение. Не случайно в других текстах погружение в «мертвый сон» сопровождается сновидением-откровением. Так происходит в рассказе Л.Толстого «Сон молодого царя», где царь, засыпает «крепким - мертвым сном» и видит необычный сон-притчу (512). Но Л.Толстой не вводит в роман сон-откровение, потому что основой сюжета романа является метафора сон/пробуждение. Нравственный катарсис, которым завершается путь мытарств Нехлюдова, заключается в выходе из жизни-сна через «мертвый сон» в «новую жизнь». «Нехлюдов шел, , не имея сил...» (459). «Не ложась спать, Нехлюдов долго ходил взад и вперед по номеру гостиницы» (462). «Он не спал С этой бессонной ночи начинается, по утверждению автора, для Нехлюдова «совсем новая жизнь» (468), а мотив пробуждения получает религиозно-философское наполнение. Можно утверждать, что динамика мотивов сна/пробуждения и их контекстных синонимов в сжатом виде представляют художественную философию романа.
3.4. Онейрический текст в нарративе романов
Изучение дискурса онейрического текста предполагает оживление его динамики, связанной с процессами порождения текста адресантом, и всех обстоятельств его восприятия адресатом: его эмоции (страх, удивление, вопрос и др.) и когнитивные усилия (что означает этот сон, почему мне он приснился). Такое разграничение продуктивно для изучения онейропоэтики сновидений в романах Л.Толстого, где рассказы о сновидениях включены автором в область речевого поведения персонажей. Для автора важно показать сложность порождения речевого сообщения, а также перевода невербального текста сна в вербальный текст. Еще один момент изучения онейропоэтики касается динамики оформления
Итак, нас будут интересовать два момента: во-первых, как организован нарратив сновидения, кто его оформляет и представляет: автор или персонаж; во-вторых, как вписан сон в нарратив романа, и насколько он самостоятелен и обособлен как онейрический текст.
Если использовать предложенные В.Шмидом понятия «конкретный автор» и «абстрактный автор», то первый может быть определен как адресант сновидений, а второй, который является «олицетворением конструктивного принципа произведения» или его «внутритекстовым представителем» [40, 42], - нарратор, оформитель онейрического текста. Сновидение, принадлежа персонажу, нуждается в нарраторе. Этот нарратор может доверить рассказ о сне персонажу, но непременно контролирует сам процесс вербализации и является соглядатаем сновидца.
Выделяя сновидения из текста романов, мы вправе указать на избирательность «Войны и мира» указывает на перспективность метода прочтения «грандиозного произведения» «от части целого к целому» и поясняет, что «частью может быть слово, реплика, эпизод» [42, 5] . В нашем исследовании ею оказывается сновидение героя как относительно завершенный и обособленный микротекст в макротексте романа.
Персонажный принцип рассмотрения сновидений в романе «Война и мир» позволяет сгруппировать их в условные микроциклы и рассмотреть специфику в нарративе каждого. Начнём со сновидений Андрея Болконского. Два онейрических текста передают состояние князя, отправленного курьером к австрийскому двору. Онейрические состояния переданы нарратором, который прекрасно осведомлен о сюжетах сновидений, поэтому нарратив онейрического текста естественно вплетается в романный нарратив. Такой вид соединения нарративов назовем связанным нарративом. При этом нарратор дает читателю понять, что это «первосоние» [43], в которых переплетаются воспоминания и фантазии, и четко обрамляет сны знаковыми фразами «он закрывал глаза» - «поспешно просыпался»; «он закрыл глаза» - «он пробудился».
Предсмертный сон Андрея тоже передан всезнающим нарратором, при этом акцент сделан на последовательном пересказе основных эпизодов. Опять же границы онейрического текста явно означены фразами: «он заснул», «он видел во сне», «проснулся» (6, 69-70). В онейрическом нарративе привлекает внимание повтор местоимения: «он не ранен», «он говорит», «он встает», «он успеет или не успеет», «страх охватывает его», «он бессильно-неловко подползает», «он ухватывается». Нарратор выстраивает сюжет, в котором явно выделены завязка, развитие действия, кульминация и трагическая развязка. Местоимение «он» в момент развязки заменяется социальноименной номинацией: «И князь Андрей умер». В последнем абзаце онейрического текста нарратор передает ситуацию присутствия/отсутствия персонажа через сочетание двух номинаций: «Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся. «Да, это была смерть. Я умер - я проснулся. Да, смерть - пробуждение! ».
отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто-то сказал мне: «Поди, притвори», я пошел и хотел отворить сначала, кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописанный ужас. Я проснулся и был счастлив пробуждением» [2, 146]. Обратим внимание на роль местоимения «я» в этом пересказе и на то, как по-разному воспринимается сходный сюжет, рассказанный сторонним нарратором в романе или самим сновидцем. Местоимение «я» возникает в речи Болконского только в момент пробуждения.
В самом же нарративе сна трудно выделить даже косвенную или несобственно-прямую речь. Тем самым субъективность и интимность этого сна намеренно сняты, а сон включается в авторский нарратив. Только в момент пробуждения вводится прямая речь персонажа.
Совсем по-иному строится нарратив сновидений Пьера Безухова. Этому персонажу принадлежат пять снов, три из которых включены в дневник Пьера. «Я» сновидца представлено в дневниковой триаде. Сны обрамляют фразы: «Я видел во сне...»- «я проснулся» (сон 3 декабря); «Видел сон...» - «и вдруг всё сокрылось» - И я проснулся» (сон 7 декабря); «Видел сон, от которого проснулся с трепещущим сердцем» (4, 178-191). Пересказы снов заканчиваются покаянной рефлексией, при этом психологическое напряжение сновидца нарастает.
Важно, что эти сны даны не в авторском повествовании, а в дневниковых записях героя. В этом проявляется художественный такт и целомудрие Толстого-писателя. Сквозь книжный характер идеологизированных образов этих снов Пьера проглядывает живой поток испытываемых им чувств и возможность новой любви, в которой он сам себе боится признаться. В окончательном тексте романа Толстой убирает из снов Пьера не только упоминание о Ростовой, но и мотивы скрытой ревности к Болконскому.
Два последних сна Пьера могут быть названы кризисными снами. Они тесно связаны между собой, хотя помещены в третьем и четвертом томах. Вербалика ввода онейрического текста в нарратив романной яви традиционна: «он почувствовал, что засыпает.»; «думал Пьер, засыпая.». Но в четвертый сон нарратор вводит нас через внутреннюю речь персонажа: этот сон после Бородина начинается с мысленного вопроса, который герой задает себе во сне: «Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека?» (5, 304). И далее следует изложение сна от лица нарратора: «И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа». Перед нами сон-картина, сон-экфрасис [44], но в описании пространства явно передана персонажная «пер стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из-за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля» (5, 304).
При воссоздании сна нарратором мысли Пьера представлены то, как косвенная речь, то как прямая речь, но читателю ясно, что автор видит сон вместе со своим персонажем и одновременно знает, что происходит в мыслях и желаниях персонажа (отсюда фразы: «Пьер не понимал», «он знал», «Пьер захотел»). Неожиданное пробуждение прерывает сон и сновидение, которое персонаж заставляет продлиться. Перед читателями рождается осознанное сновидение, которое оформлено как внутренний монолог самого героя или того, кого называет Пьер «какой-то голос», «кто-то вне его говорил ему» (5, 305). В этот онейрический развернутый и связный монолог тоже вставлена ремарка всезнающего нарратора: «Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? - сказал себе Пьер». Речевой нарратив при отсутствии событийного сюжета сновидения сочетает в себе конструкции монолога и внутреннего диалога. Как уже отмечалось, это сновидение, к огромной досаде Пьера, дважды прервано.
«опять»: «Он спал опятъ тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина. Опятъ события действительности соединялись с сновидениями, и опятъ кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске» (6, 170). Картины сна даны в пересказе нарратора, а мысли Пьера и речь учителя географии оформлены как прямая речь. Этот сон-экфрасис, в котором появляется образ живого глобуса, колеблющегося шара, состоящего из капель, плотно сжатых между собой, считается концентрированным образно-символическим воплощением философской концепции мира в романе Толстого. Можно сказать, что при воссоздании четвертого и пятого снов Пьера автор использует прием продления онейрического нарратива. Толстой разовьет этот прием в романе «Анна Каренина».
Все сновидения Пьера объединяет внутренний сюжет поиска духовного авторитета. Многие образы сновидений Пьера (незаконного сына, лишившегося в младенчестве матери) восходят к архетипу отца. В первом сне это брат А., потом в двух снах умерший Баздеев, названный благодетелем, в четвертом Баздеев живой и чей-то голос, говорящий важные для Пьера слова. Наконец, в пятом сне это «давно забытый, кроткий старичок учитель географии» (6, 170). В рождении сновидений Пьера, как и двух снов Болконского, существенное значение имеют воспоминания, то есть сон «включает в себя и выводит наружу картины воспоминаний, в которых оживают переживания» [45, 142].
на то, что при вводе онейрического текста нарратор использует прием необъявленного сна. «Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то. Ожиг, жиг, ожиг, жиг... - свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы - но лучше и чище, чем скрипки и трубы, - каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное» (6, 158). Как и в ситуации со сновидением Пьера, нарратор фиксирует моменты прерывания сновидения и осознания его персонажем («Ах, да, ведь то я во сне», - качнувшись наперед, сказал себе Петя»), а потом опять возвращения в сон («Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки...»(6, 159). Окончание сновидения фиксируется фразой: «Его разбудил ласковый голос Лихачева».
В нарративе сна преобладает «несобственно-авторское повествование», оно «содержит лексические единицы, оценки, стилистическую окраску, которые характерны не для нарратора, а для персонажа» [40, 166], который пребывает в экстазе. Мир сновидения изображен таким, каким «видит и слышит его персонаж», но одновременно нарратору удается отстраниться и выйти из зоны персонажа. Нарратор видит и слышит сон так, как он снится его персонажу, но одновременно, находясь внутри сновидения, он делает свои комментарии и даже дает название жанру этой музыки сна - фуга. Сюжет сна представляет экфрасис несуществующего музыкального произведения [46].
Чувственное начало породы Ростовых преобладает в двух сновидениях Николая Ростова. Первое сновидение персонаж видит после ранения, это сон-бред в ситуации измененного состояния сознания. Этот сон включает в себя как бы несколько слоев сновидений: сон-бред, порождаемый телесной болью от раны, переходит в сон-воспоминание и далее в кошмар.
«Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами». «Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его, но нельзя было избавиться от них.» «Он открыл глаза и поглядел вверх» (3, 401). Нарратив сна дан не как сюжет, а как цепочка образов, деталей, ситуаций, среди которых доминируют зрительные, слуховые и тактильные. Нам приходится верить нарратору, который называет и нанизывает их.
Второй сон Ростова - это первосоние, когда верхом на лошади он объезжает цепь своих гусар. Фрагменты онейри- ческого текста вплетены в романное повествование. Важную роль в этой нарративной цепи играют лингвистические фонетические ассоциации: пятно - une tache»... не Наташа. ..На...ташка... На ташку, наступить... (3, 484-485).
Сон пятнадцатилетнего Николеньки Болконского в Эпилоге романа обрамляют две фразы: «страшный сон разбудил его»; и «ужас обхватил Николеньку, и он проснулся» (6, 313). В этом межтекстовом промежутке и дано изложение сновидения. Момент ретроспективного припоминания проявлен в оней- рическом нарративе благодаря начальной фразе: «Он видел во сне себя и Пьера в касках.». Начиная изложение сна с момента пробуждения персонажа, автор получает возможность самостоятельно строить нарратив сна и передать сон в восприятии персонажа, используя несобственно-прямое повествование. Доказательством этого могут служить фразы с номинациями, которые, несомненно, принадлежат мальчику: «они с дядей Пьером»; «и дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе». Рефлексия сна дана уже в виде развернутого внутреннего монолога персонажа.
Сделанные наблюдения позволяют утверждать, что оней- рический текст в романе «Война и мир» находится в поле авторского нарратива, а персонажам дается только частичная свобода при изложении своих сновидений.
В.Шмид в разделе «Абстрактный автор» своей монографии пишет о том, что каждое произведение имеет своего абстрактного автора, но при этом уточняет: «Конечно, абстрактные авторы разных произведений одного и того же конкретного автора, например Л.Толстого, в определенных чертах совпадают, образуя что-то вроде общего абстрактного субъекта творчества, некий стереотип, в данном примере - «типичного Толстого», тот конструкт, который Ю.Тынянов называл «литературной личностью» [40, 41]. Отталкиваясь от этого суждения, можно наблюдать, что материализованный в нарративе абстрактный автор в романе «Анна Каренина», как ранее в романе «Война и мир», осуществляет тот же инквизиторский контроль над сновидениями своих героев. С другой стороны, автор все же начинает предоставлять персонажам относительную свободу наррации.
эпикурейский сон Стивы Облонского, с которого начинается роман, соотносится с первым сном-кошмаром Анны, в котором она наслаждается любовью двух мужчин.
Описание этого первого сна героини автор начинает с уступительного союзного слова «зато». «Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом» (7, 169). Обратим внимание на противоречие между отношением Анны к своему сну во сне и наяву. При этом наяву она не удивлена, что ей в сне хорошо, но в сне удивлена, что оба теперь довольны. Читатель оказывается в логической ловушке, которую создает нарратор первой фразой сновидного нарратива, начатого с уступительного союза.
Этот сон можно отнести к осознанным сновидениям, ведь Анна в нём удивляется тому, что весела и даже смеется. Мы наблюдаем раздвоение героини на грани сна и яви. Автор свободно и самостоятельно организует нарратив сновидения, но при этом вводит в него косвенную речь персонажей («Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь»; «она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь...).
Сон Стивы не в такой мере подвергается деформации. Автор не вмешивается в построение нарратива сновидения, а только наблюдает за персонажем со стороны. В этом онейрическом тексте явно преобладает речевой дискурс. На это указывает и его дискретная конструкция. «Дискурс порождается не в виде плавного потока, а определенными квантами (или, в других терминах, сегментами, шагами, порциями, пульсациями, толчками). Линейно дискурс организуется как последовательность таких квантов. Сегментация - одна из центральных проблем организации устного дискурса» [47, 55]. Речевой дискурс представлен как сбивчивая внутренняя речь (в тексте романа она закавычена) с элементами рефлексии (не случайно припоминание сна начинается с дважды повторенного риторического вопроса: «Да, да, как это было?») и эмоций («хорошо было», «много ещё что-то там было отличного, да не скажешь словами»). Сон передан через внутреннее говорение персонажа. При этом явно ощущается процесс когнитивных усилий, когда сновидец хочет удержать ускользающий сон и точнее вербализовать увиденное и услышанное (например, «и столы пели: Il mio tesoro, и не Il mio tesoro, а что-то лучше»).
Второй онейрический цикл романа составляет удвоенный и разделенный сон-кошмар Анны и Вронского. Сон Вронского включен в четвертую часть романа. Это мужской вариант сна. Перед нами внутренняя речь, сохраняющая признаки когнитивного усилия. Не случайно рассказ Вронского содер со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, - сказал он себе. - Но отчего же это было так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. «Что за вздор!» - подумал Вронский и взглянул на часы. Была уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучась только тем, что опоздал» (7, 394).
При оформлении текста в речи Вронского существенную роль играет момент неуверенности и указания на невозможность передать точнее события сновидения, поэтому и вводятся неопределенные местоимения: «что-то делал», «какие-то странные слова». Сон пересказан дважды: первый раз внутренней речью героя, второй - косвенной речью в повествовательном нарративе («Он живо вспомнил опять...»).
Дискурс сна Анны построен сложнее. Это единственный в трех романах случай, когда персонаж сам озвучивает сон в диалоге. Сон Анны, как и последний сон Андрея Болконского, включает в себя пробуждение во сне: князь Андрей во сне умер и одновременно проснулся, а проснувшейся во сне Анне камердинер мужа говорит «родами умрете». Это пробуждение в сюжете сновидений, предшествующее реальному пробуждению, один из приемов онейропоэтики Толстого. С ним связана передача важной мысли писателя: смерть есть пробуждение.
Нарратив сновидения Вронского-Анны отличается высокой степенью неопределенности. Во-первых, повторяющееся сновидение представлено в романе в виде вариативных онейрических текстов. Мы уже обращали внимание на то, какие метаморфозы претерпевает главный образ кошмара мужик/мужичок. грызет - копошится, приговаривает - что-то делал над железом, приговаривая - делает это какое-то страшное дело в железе над нею - приговаривая что-то - работал над железом. В-третьих, неопределенность усиливается и в процессе оформления дискурса сновидения в нарратив, когда автор гипнотизирует внимание читателя повтором местоимения «что-то» во всех вариантах сновидения Анны и Вронского: «что-то в стене», «что-то страшно», «взять что-то, узнать что-то», «стоит что-то», «и это что-то», «что-то делал», «что-то знакомое», «приговаривая что-то».
Исчезновение развернутых сновидений из художественной канвы последнего романа позволяет исследовать присутствующие в романе мотивы сна и пробуждения, назвав их , и поставить вопрос об эволюции онейропоэтики в романном творчестве Л.Толстого. Роман «Воскресение» состоит из трех несоразмерных частей. Барское пробуждение Нехлюдова от сна в начале романа ступенчато соотносится со всеми последующими пробуждениями в тексте и контрастно противопоставлено последней бессонной ночи воскресения. Параллельно, но синхронно пробуждению Нехлюдова развивается запаздывающее пробуждение Масловой. Наблюдения показывают, что автор растворяет онейрический нарратив в романном наррративе и не ощущает надобности вводить в роман сновидения персонажей.
Единственный онейрический текст возникает во второй части романа, когда события яви, слуховые и зрительные ощущения соединяются в сознании засыпающего Нехлюдова с воспоминаниями о разговоре с Масловой. В описательном нарративе онейрического текста выделяются несколько слоев. Первый - слой сонорных образов (пение соловьев, кваканье лягушек) и визуальных образов («он вспомнил о Масловой, как у нее, так же, как кваканье лягушек, дрожали губы, когда она говорила» ((10, 214). Второй - слой воспоминаний о разговорах с немцем-управляющим и ранее с Катюшей. Из этих разговоров в сон попадают оставшиеся в его памяти фразы. Третий слой - это мысли самого Нехлюдова («нет, не поддамся...»).
Момент начала онейрического текста в авторском нарративе представлен сочетанием двух состояний персонажа: «хотел заснуть» и «долго не мог уснуть» (10,214). Кроме того, мы стакиваемся с уже известным нам в предыдущих романах приемом прерывания онейрического состояния и разрыва онейрического текста (так происходит в сновидениях Пьера и Пети Ростова, где разрыв вызван внешними причинами), но в случае с Нехлюдовым кратковременное пробуждение спровоцировано когнитивными усилиями спящего: он задает вопрос, который разрывает ассоциативную онейрическую цепь. «Потом немец-управляющий стал спускаться к лягушкам. Надо было его удержать, но он не только слез, но сделался Масловой и стал упрекать его: «Я каторжная, а вы князь». «Нет, не поддамся», - подумал Нехлюдов, и очнулся, и спросил себя: «Что же, хорошо или дурно я делаю? Не знаю, да и мне все равно. Все равно. Надо только спать». И он сам стал спускаться туда, куда полез управляющий и Маслова, и там все кончилось» (10, 213-214). В образах сна Нехлюдова присутствуют элементы абсурдных метаморфоз (они встречаются и в масонских сновидениях Пьера): так, возникает химерическое сращение Масловой и квакающей лягушки, а потом превращение немца-управляющего в говорящую Маслову.
* * *
Онейрические тексты, занимая в нарративе романов Толстого небольшой объем, одновременно обладают важной феноменологической и онтологической сущностью. Переходя из визуально-сонорно-тактильной субстанции в вербальную, сновидения обретают статическую форму. Они сохраняют признаки высказывания, содержат в себе явно выраженные элементы живой речи (спонтанность, речевые сбои, паузы, вставки, обрывы, самоисправления), которая передается через внешнюю или внутреннюю речь персонажей или через их косвенную или несобственно-прямую речь в авторском повествовании. Это может быть и устный пересказ с элементами комментирования и репликами. Перед нами
Анализ трех романов позволяет обнаружить четыре способа связывания нарратива снов с нарративом романной яви. Так, сновидение персонажа может быть включено в нарратив автора, и только глаголы (закрыл глаза, заснул, проснулся) определяют его границы (так переданы первосония Андрея Болконского). Назовём такой нарратив связанным. Автор может частично доверить передачу онейрического события персонажу (прямая речь, косвенная или несобственно-прямая), при этом продолжая комментировать события сна и яви (так переданы сон Пети Ростова, сон Николеньки Болконского, сон Нехлюдова). Назовём такой нарратив пунктирным. Анна Каренина в живом диалоге рассказывает свой сон Вронскому). Назовем такой нарратив обособленным. Четвертый случай нарративной соотнесенности сновидения и романной яви можно назвать параллельным. Он наблюдается тогда, когда в романе присутствуют несколько сновидений, между которыми устанавливаются свои смысловые и нарративные связи. Примером может служить продолжающийся кризисный сон Пьера Безухова или возвращающийся сон-кошмар Анны Карениной.
Вы помните, что последний сон Андрея Болконского сюжетно близок одному из снов Толстого. Это дает основание проследить, как собственный сновидный опыт Толстого соотносится с его художественной гипнологией. Как выдающийся мыслитель-художник Толстой всю жизнь пытливо фиксировал собственные сны и сновидения близких ему людей. Образцом литературно обработанного сна-откровения, сна-притчи является онейрический текст, который завершает автобиографическую книгу «Исповедь». Толстой работал над ней в конце 70-х - начале 80-х годов. «Исповедь» должна была быть опубликованной в 1882 году, но духовная цензура наложила на нее категорический запрет, и «Исповедь» увидела свет в Женеве в 1884 году. В ней Лев Толстой пересказывает сон, который подсказал ему выход из сложнейших нравственных поисков, предпринятых его рассудком. По утверждению секретаря писателя Н.Н. Гусева, сон этот Толстой действительно видел [48, 86].
Самому онейрическому тексту предшествуют несколько предложений, которые можно назвать прологом. «Это было написано мною три года тому назад. Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидал сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон...» [49, 158]. То есть сон не входил в первоначальный замысел произведения, был присоединен много позже и представляет собой завершенное и самостоятельное произведение. Этот пролог включает в себя указания на важность смысла сновидения. Высказанные суждения перекликаются с мыслями Толстого о том, что в снах сжимается и связывается то, что в жизни разрознено. «Я видел сон, - писал Толстой в дневнике 10 марта 1904 года, - который уяснил многое, именно то, что сон соединяет в одно то, что в действительности разбивается по времени, пространству и причинности» (55,19). Это самонаблюдение можно переадресовать и в область романного творчества писателя, в объемных романах которого сновидения персонажей выполняют связующую, стягивающую функцию и помогают читателю «уяснить многое».
«Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежатъ; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени - на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать».
В этом сновидении важно описание пространства, положение тела и состояния сновидца. Все эти три составляющие характерны и для придуманных Толстым сюжетов снов персонажей его романов. Так, события двух масонских снов Пьера происходят в комнатах его дома; события последнего сна Андрея Болконского - в его комнате; в сне Анны представлена ее спальня.
После завязки следуют действия, которые не приносят желаемого результата. И события начинают развиваться драматически. «И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.
туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? - спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю».
Кульминацией сна является отчаяние сновидца и описание двух бездн. Отчаяние сопровождается вопросами и описанием сильных эмоций (от чего жутко, не могу разобрать, сердце сжимает, смотреть ужасно, от ужаса). В сновидении Толстого важную роль играет телесность, которая представлена и как целое (мое тело), и как дробность: ноги, ступни, голени, низ тела, верх спины, глаза, сердце, голова. В процессе развития сюжета пространственное положение тела меняется. Оно соскальзывает вниз и висит так, что ноги не касаются земли. Потом выясняется, где сновидец находится: «Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе».
Находиться на высоте в сновидениях - архетипическая ситуация, связанная с идеей избранности и одновременно гордости, тщеславия и искушения (вспомним не включенный в роман сон Николая Ростова или сон Григория в трагедии А.Пушкина «Борис Годунов»). Не случайно здесь упоминаются высочайшая башня и гора. Но сновидец в толстовском сне испытывает не радость, а сначала страх, потом ужас. Постепенно он сознает, что его ужасает бесконечность внизу, а бесконечность вверху притягивает, и страх проходит. Символика двух бездн может иметь разное значение. Во- первых, это две бездны души. Эти две бездны Толстого похожи на две бездны героя Достоевского. Во-вторых, - это ад и рай. Не случайно нижняя бездна воспринимается как пропасть, а верхняя называется «бездной неба». Символика неба в творчестве Толстого всегда связана с идеей высшей духовности. В-третьих, с двумя безднами связаны идеи смерти (она вызывает у сновидца ужас, вспомним арзамасский ужас Толстого [50]) и бессмертия.
«Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: “Заметь это, это оно!” - и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся» [49, 158-160].
тонкому столбу не на чем». Столб - символ небесной вертикали и стремления вверх. Горизонталь, которую образует тело, - это символ земного пространства. Соединение вертикали и горизонтали образует соединение божественного и человеческого. Рассматривая древние геометрические символы, С.Головин пишет: «Горизонтальная, лежащая линия - несомненно, древнейший знак горизонта, земной поверхности»; «в знаковом языке номадов - требование пассивного («женского») поведения, требование лечь, сложить оружие, прекратить сопротивление, сдаться» [51, 25]. Вертикальная линия, наоборот, олицетворяет активность. Таким образом, в символической геометрии сна противопоставлены две тактики поведения - активное и пассивное, гордость и смирение, конфликт и согласие, говоря языком Толстого, война и мир.
В статье К.Бланк «Где я и на я чем лежу?» Заключение к «Исповеди Толстого» прослеживается связь между «лежанием» и опытом богопознания, откровения и прозрения» в художественной прозе Толстого. «Этот топос характерен для ключевых моментов в рассказах, повестях и романах Толстого, написанных им на протяжении полувека» [52, 47]. «В этом положении человек смотрит на мир иначе, чем когда он встречается с миром лицом к лицу. Выключенный из активной деятельности, он видит предметы и явления с неожиданной стороны, невидимой обычным зрением, что влечет за собой метаморфозу в душе, сердце и сознании» [52, 49].
С такой типологией пространственной модели мира читатель встречается в первом томе романа «Война и мир» при описании героического поведения князя Болконского, когда он поднимает упавшее знамя (это воинственная вертикаль), едва удерживая его, бежит вперед и увлекает за собой батальон, а потом падает раненый (пространственная горизонталь) и не видит уже ничего, кроме «высокого неба» - «неизмеримо высокого», «бесконечного неба» (3, 503). «Бездна неба», спасительность которой открывает для себя Толстой во сне, сопоставима с «высоким небом» князя Андрея.
Башня или гора этой части сна означает вертикаль, идущую снизу вверх, а значит - вертикаль бунта и гордости. «Тонкий столб», которому стоять «не на чем», но «твердость этого столба не подлежит никакому сомнению» в конце сновидения - это божественная вертикаль, идущая сверху вниз. Её можно уподобить лучу, она символизирует высшую волю и божественное созидательное начало. Так через язык пространственных символов передается идея сновидения - обретение Самости через разрыв всех связей, кроме связи с верхней бездной.
О.Давыдов один из разделов своего исследования духовной биографии Л.Толстого называет «Толстой и дерево» и рассматривает пространственный образ сна как древо жизни. Приведем фрагмент его рассуждений. «В головах - столб, от которого отходит петля, на которой Лев Николаевич висит, опираясь на нее серединной частью тела. Всякий узнает в этом устройстве ствол (или ветку) дерева, на котором держится плод (лист, цветок)» [53]. В разделе «Толстой и сумерки» О.Дывыдов пишет: «Из снов и текстов Толстого явствует, что по ту сторону собственного сознания он - плод, сын, висящий на пуповине материнского Дерева русского Рода» [54].
состояния сновидца. Особое значение здесь имеет описание неудобства от многочисленных помочей и поиск опоры для падающего тела. Помочи - это «ремни, тесьмы, для подвески, поддержки чего» [55, 274]. В.И.Даль указывает, что это слово происходит от глагола помочь. В сне многочисленные помочи при кровати мешают, но в развязке остается одна помоча, завязанная в виде петли, на которой и лежит «серединой тела» сновидец. Исчезновение кровати и многочисленных помочей символично. Они олицетворяют домашнее бытие сновидца, многочисленные мирские связи, которыми он опутан и от которых он должен освободиться, чтобы обрести новую опору. Не случайно в момент кульминации возникает такая картина: «И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь». В.И.Даль указывает, что слово держава восходит к слову держать и означает «крепость, силу, твердую связь», «за что можно держаться, ухватиться» [56, 431]. Освобождаясь от прежних помочей кровати, сновидец неожиданно получает поддержку и точку опоры: «И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко». Динамика и контраст глаголов состояния очень важен для этого онейрического текста: лежу, лежу на спине, отталкиваю, тело спускается, висит, ноги не достают до земли; чувствую, что должен упасть; я сейчас соскользну с последних помочей и погибну; я сорвусь; я уже не вишу, не падаю, а держусь крепко. Борьба с помочами во сне заканчивается усмирением собственного я.
О.Давыдов связывает образы сновидения с первыми детскими воспоминаниями Толстого. В отрывке 1878 года, публикуемом под заголовком «Моя жизнь», Толстой рассказал о двух самых ранних своих воспоминаниях. Первое: ребенка пеленают, а он не хочет, кричит. «Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно». Собственно, в этих пеленах можно узнать зачаток тех самых помочей, от которых Толстой хочет избавиться в своем сне, то, что прививается в детстве и впоследствии оказывается условиями жизни в социуме. Второе воспоминание радостное: «Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце». «Эти два впечатления - пеленание, отнимающее свободу, и погружение в благую влажную стихию, вроде материнской, - два ясных символа: необходимости, насилующей человека, и счастья гармонии с миром» [53].
Звуковая картина сновидения включает образ звучащей речи, которая принадлежит «голосу». Обратим внимание на фразу: «Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: “Заметь это, это оно!”». Значит для снов Толстого такой эпизод с голосом не нов. Голос он включает в четвертое сновидение Пьера Безухова, а пятый сон начинается с указания, что «сам он или кто другой говорил ему мысли, которые ему говорились в Можайске» (6, 170). Сон Толстого тоже завершает фраза: «И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни». Получается, что «голос» и «кто-то» - синонимические номинации источника очень важных мыслей. Будет слишком смелым считать этот голос символом божественной инстанции, но сон-прозрение, каким является сон в «Исповеди», вызывает библейские ассоциации. В Библии слово голос принадлежит отдельному человеку, царю, целому народу или Богу, пророку. Это может быть голос плача, радости, голос смятения, голоса рыдающих, бегущих. Но голос Бога всегда связан со словом. Так, голос Бога говорит Адаму и Еве (Быт.3:8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня), Моисею (Чис. 7:89), Савлу (Деян.9:4 Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?), Петру (Деян.11:7 И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь). Книга Апокалипсис начинается с того, что Иоанн слышит голос (Откр.1:10;11 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; То, что видишь, напиши в книгу...). Этот голос вещает, указывает и приказывает (Откр.4:1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего). Повторяющаяся в шестой главе Апокалипсиса фраза «Иди и смотри», которую произносят Иоанну «громовым голосом», перекликается с фразами из сновидения «Исповеди»: «Заметь это, это оно!»; «Смотри же, запомни». Голос - это один из важнейших образов сновидения Толстого. Повелительные, указательные и побудительные интонации двух фраз, им произнесенных, предполагают стоящего за ним адресанта сновидения, который принадлежит к высшей духовной инстанции.
- повторы и возвращения, которые замедляют изложение. Признаки таких усилий мы наблюдаем, когда сновидец, чтобы передать ощущение высоты, прибегает к аналогиям («на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы»): ведь никакой башни и горы в сновидении нет, а эти образы введены в процессе высказывания. В тексте явно передано диалогическое начало, которое представлено через внутренний диалог в процессе сновидения. Синтаксически оно оформлено в риторических вопросах и анафорах: «я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу?»; «Что же делать, что же делать? - спрашиваю я себя»; «Я спрашиваю себя, как я держусь». Сначала это вопросы отчаяния, потом вопросы удивления. Сны-мысли и диалоги в снах Толстой фиксирует и в дневнике. Так, 3 июня 1889 года он пишет: «Встал поздно. Видел во сне: В[опрос]. Вы признаете, что любовь радостное чувство? О[твет]. Да. В[опрос]. О[твет]. Да. В[опрос]. Какое действие на возможность любви производит забота о себе? О[твет]. В[опрос]. А обратное, самоотречение? О[твет]. Увеличивающее. - Давайте так и делать» (50, 90).
Вот как вводятся мысли сна: «Но я начинаю думать...»; «вместе с тем я начинаю обдумывать»; «тут только я спрашиваю себя»; «И тогда приходит мне мысль». Вторжение в сон голоса заставляет сновидца заново пережить предшествующий этап сновидения: «Вспоминаю, как все это случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх». В конце сна рассказчик нарушает иллюзию пребывания в границах сна и вводит рефлексию феномена сна: «И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше». Фраза «как это бывает во сне» встречалась ранее («Как это бывает во сне, какой-то голос говорит...»), и в обоих случаях есть вероятность говорить о переходе сна в осознанное сновидение или о постсновидном Я. Доказательством, что мы сталкиваемся с осознанным сновидением, может быть фраза: «Я во сне даже удивлен, как не понимал этого раньше».
Получается, что повествующее «я» раздваивается: на Я, синхронное сновидению, и Я, синхронное рассказу о сне. Это сосуществование двух Я - сновидца и проснувшегося - всегда акцентировано и в романах Толстого (сон Стивы Облонского и сны Анны; сны Пьера, сон князя Андрея и его сына). При этом Толстому важно показать, насколько для персонажа важно сохранить опыт пережитого и открывшегося во сне. Именно в этом состоит антропологический смысл снов-откровений, кризисных снов и творческих снов. После таких снов человек как бы перерастает себя прежнего, просыпается обновленным. Так происходит с Толстым: «Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся».
Сравнивая сон Толстого с фикциональными текстами снов персонажей романов, можно выделить некоторые особенности онейропоэтики писателя:
сны в сжатом виде выражают то, что пережито, перечувствовано, передумано персонажами; они являются результатом напряженной душевной работы. Но при оформлении нарратива онейрических текстов преобладает авторский голос. «Мир Толстого монолитно монологичен; слово героя заключено в твердую оправу авторских слов о нем» [57, 94];
• в сюжетах снов важную роль играет сам сновидец или действия, совершаемые по отношению к нему, а также другие персонажи, действующие и говорящие;
• важную роль в онейрической картине играют пространственная организация и пространственные образы;
• в сновидениях особое значение придается чувственным ощущениям сновидца: визуальным, тактильным, слуховым;
• в снах персонажей, как и в снах самого Толстого, правдиво и ярко представлены сильные эмоциональные состояния и переживания (страх, ужас, радость, восторг, отчаяние, удивление);
в сновидениях Толстого и его персонажей присутствуют элементы осознанного сновидения;
• сновидения-экфрасисы в онейропоэтике Толстого сочетаются со снами-мыслями, оттого такое большое значение в онейрических текстах отводится речевому компоненту. Диалог, монолог, отдельные реплики или образы-мысли могут быть представлены в снах в виде прямой, косвенной или несобственно-прямой речи;
• в сновидениях Толстого и его героев сочетаются узнаваемые реалистические детали с элементами фантастики, абсурда и химерическими образами: глобус из живых капель; дверь, которую нельзя удержать; графинчики и они же женщины; скрипка из стекла; мужик, произносящий французскую фразу; немец- управляющий, превращающийся в Маслову; человеческое тело, висящее между двумя безднами и др.;
• при воссоздании образов и событий сна сновидец не скрывает когнитивных усилий а, наоборот, вербально оформленный сон включает моменты рефлексии и интеллектуальной обработки картины сновидения.
В художественной гипнологии Толстого объединен богатейший опыт изучения собственных сновидений и художественный опыт воссоздания сновидений своих вымышленных героев. Его литературные сновидения отличаются сюжетной и образной уникальностью.