
Глава 2. Ассоциативность в поэтической картине мира В. Набокова
2.1. Внутритекстовые ассоциативные связи слов как способ отражения
поэтической картины мира В. Набокова
Важной особенностью ассоциативных связей текстовых слов является способность отражать творческую индивидуальность писателя. Феномен «языковой личности» Набокова колоссален, что объясняет неугасающий к нему интерес со стороны лингвистов и литературоведов. Однако изучение творчества писателя в ассоциативном аспекте только начинается. Интерпретировать однозначно произведения Набокова невозможно. Это ни в коем случае не определяется качеством исследований, а является закономерностью, идущей от самой его прозы и выступающей как одна из существенных ее особенностей.
Писатель ценит важность иррационального, интуитивного начала в творчестве, осмысливая на их основе ассоциативные связи, и в то же время держит в поле зрения механизм образования и сочетания этих связей, оценивая произведение по его «технической стороне». Поэтому обращение к литературнотеоретическим воззрениям самого Набокова, специфике его творческой личности мы считаем необходимым при реконструкции языковой картины мира писателя в ассоциативном аспекте. « Зачем я вообще пишу? - размышляет он. - Чтобы получать удовольствие, чтобы преодолевать трудности. Я не преследую при этом никаких социальных целей, не внушаю никаких моральных уроков... Я просто люблю сочинять загадки и сопровождать их изящными решениями». Никогда не отрицая моральное воздействие искусства, которое, безусловно, свойственно каждому истинному произведению, Набоков боролся с умышленным морализированием, которое «убивает всякое воспоминание об искусстве в любой работе, как бы искусно она ни была написана» (Из письма Джорджу Нойесу). Набоков понимал писательскую нравственность как способность отличать истинное искусство от мнимого. По Сирину, истинное искусство - это и есть правда, а мнимое - ложь. В истинном искусстве и есть настоящая нравственность. Набоков - в письме к Уилсону: «Когда вы действительно прочтете «Лолиту», обратите внимание, что это высоко моральное произведение». Художественная правда вовсе не тождественна «реализму» и вовсе не исключает вымысел. «Литература - это вымысел. А вымысел и есть вымысел. Назвать историю правдивой - значит погрешить и против вымысла, и против правды» (Набоков 1995, 84). В набоковском мире всякая малость равновелика в поэтическом преломлении идеям. Этим качеством обусловлена, в первую очередь, специфика внутритекстовых ассоциативных связей в творчестве В. Набокова.
Наблюдательность, внимание к детали, меткие описания даже эпизодических людей - самая важная черта его творческого гения. Они вводят писателя в «атмосферу» произведения, дают «чувственную искру» изображаемому. Эту черту набоковской эстетики тонко уловил Андрей Битов: «Он восстановил в правах такое количество и качество подробностей жизни, что она и впрямь ожила под его пером... «Поэт невстречи», он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчетливей, а не туманней» (Битов 1990, 242).
По Набокову, стремление постигнуть и объяснить «реальность» с помощью социальных или религиозно-философских обобщений оборачивается поразительной слепотой к единичному - к вещам, природе, к той же человеческой личности. Проходной персонаж в «Даре», литератор Ширин («он был слеп как Мильтон, и глух, как Бетховен»)14, написавший роман о «мировых проблемах», стоя час в зоопарке у клетки с гиеной, занятый «литературно-партийными распрями», не заметил ни клетки, ни гиены, тогда как Сирин-Набоков увидел бы в них десятки деталей и оттенков. Этот его дар не имеет себе равных: им же он наделяет и своих избранных персонажей. «Не только глаза мои другие, и слух, и вкус, - пишет в тюрьме Цинциннат, - не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопоря, но главное: дар сочетать все это в одной точке». Мартын (роман «Подвиг») «плохо запоминал даты и пренебрегал обобщениями. жадно выискивая живое, человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которыми грядущие поколения пресытятся, глядя на старые, моросящие фильмы».
Набоков не описывает, не изображает настроение - создает его. С помощью внезапно поданной меткой детали позволяет проникнуть во внутренний мир человека. Например: «Эх, мамахен, куда ты загнула, - воскликнул Николай Степаныч (и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет)» («Звонок»). Сравнение кажется банальным, глагол «ударить» употреблен в словарном значении: «Ударить - 8. Внезапно врываясь, проникая куда-либо, действовать с большей силой на кого-либо». Для усиления воздействия необходимо было сравнение с чем-то грандиозным, не меньше, чем с солнцем. Внезапно зажегшийся свет произвел такой эффект, потому что состояние героев было необычным - они были более чем взволнованны, обескуражены. Ситуация была нестандартной, поэтому все, идущее извне, воспринималось острее, неожиданнее, чему способствовала внезапно поданная деталь. В этом предложении лексического разъяснения требует и еще одна деталь - «мамахен». На наш взгляд, употребление этого слова может быть истолковано как проявление стилистического приема, который назовем «табуирование имени». Сначала героиня названа «она, потом «О. К. Неллис», затем появляется ее фамилия по мужу - «Баб» - странная, не имеющая привязки ни к какой национальности, следом «мама» и, наконец, «мамахен» - русское слово на немецкий манер. В лексемах от «она» до «мамахен» происходит явное снижение образа героини.
«Все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка из-под водки с вогнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией...» («Подлец») - различные детали характеризуют разные проявления нелепости ситуации. Возьмем более крупные произведения Набокова: пешка на шахматной доске «была выбита, как зуб», и уже одно это сравнение становится знаком непокоя, душевной растерянности («Защита Лужина»). Или: «Появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке» («Другие берега»). Ассоциативная связь между словами словосочетания «целлулоидовый воротничок» основана на семе «очень твердый» («целлулоид» - «твердое пластическое вещество из нитроцеллюлозы, идущее на изготовление галантерейных изделий, игрушек»; в слове «воротничок» актуализируется также потенциальная сема лексического значения «накрахмаленность, жесткость»). За счет этой детали создается важная характеристика человека аккуратного и педантичного. Образ экономки Елены Борисовны («Другие берега») позволяет образовать следующую цепочку деталей: сломанный пети-бар - пол-яблока - булочка - одинокая в луже редиска - горсть сухих крошек. В лексических значениях перечисленных слов контекстом актуализированы семы «ненужности», «бесполезности», «предельно малой ценности», и в сознании читателя выстраивается объективное представление о патологической скупости Елены Борисовны. Пристальное внимание к детали, к предмету становится важной характеристикой персонажа, помогает обрести ему необходимый ассоциативно-семантический «ореол», благодаря этой особенности набоковского повествования даже эпизодические персонажи становятся яркими и запоминающимися.
Внимание В. Набокова к детали отражается и в других факторах: например, для его идиолекта нередкими являются ряды тематических групп слов, представленных только одним элементом. Например, тематические группы «муж героини» и «темперамент» в рассказе «Бахман». Такое соотношение тематических групп репрезентирует главную идею одиночества гения, его «невписанности» в жизнь.
Внимание к детали особенно актуализируется писателем при описании воспоминаний героев, способствуя при этом не только меткой характеристике персонажей и передачи к ним отношения автора-героя, но и раскрытию эзотерического смысла текста. «Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, - моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку - отец» («Другие берега»). Возникшее в памяти писателя воспоминание, связанное с другой, детской жизнью, приобретает очень отчетливые, яркие цвета, противостоящие бледной, тусклой, неопределенной реальности. Слово «мягкий», имеющее значение «приятный на ощупь», и слово «твердый» - «жесткий, крепкий» - в данном контексте употребляются в переносном, метафорическом значении и описывают характеры отца и матери («мягкий» - «нежный, ласковый, лишенный грубости, резкости», что подчеркнуто прилагательным «бело-розовый» - «чистый, нежный, теплый тон»; «твердый» - «сильный, волевой, решительный», в прилагательном «бело-золотой» реализуется двойная семантика: буквальное значение цвета и переносное: 1) «крепкий как золото»; 2) «дорогой, любимый»).
Воспоминания В. Набокова часто начинаются с описания интерьера, раскрывающего немаловажный для набоковских текстов мотив дома, и в этом случае, невзирая на давность воспоминаний, каждая деталь описывается очень тщательно, с удивительными подробностями. Например: «По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общие ощущения и подробности их в памяти: шашечницу мраморного пола, белые галерейки, яркий запах цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины» («Другие берега»). Как видим, каждая вещь прочно стоит на своем месте в тексте. Возьмем другой пример из этого же романа: «Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую». Описательный фрагмент осложняется сравнением перифрастического характера: «диван» - «массив, нагроможденный в эру доисторическую». Скрытая антитеза «маленький мальчик - большой диван» раскрывает оппозицию всего творчества В. Набокова: мир детей - мир взрослых. Последующие признаковые слова дополняют образ, придавая ему зрительную законченность.
Набоковские детали отражают наглядно-чувственные впечатления, актуализируемые текстом в сознании читателя. Их можно разделить на несколько групп.
Внутритекстовые слуховые ассоциации занимают в индивидуальной картине мира В. В. Набокова особое место, поскольку уже в ранних его произведениях намечено движение от мира диссонансов к миру музыки, к гармонии: «Музыкальная буря охватила доску, и Лужин упорно в ней искал нужный ему отчетливый маленький звук, чтобы в свою очередь раздуть его в громовую гармонию» («Защита Лужина»). Причем предпочтение в данном случае отдано словам с семой «громкий звук», что связано, на наш взгляд, с ассоциативным восприятием автором громких звуков как звуков мира «других». Это не христианский мир ближних, но, когда он не пустая декорация, мир, открыто враждебный герою, мир победителей и побежденных, не имеющий никакой высшей сверхличной тайны.
Кроме того, избранные герои Набокова наделены особым качеством. Они способны не только различать звуки, но и чувствовать их во сне и наяву: Цин- циннат Ц., «потворствуя ряжению чувств, ясно, через слух («Защита Лужина»).
Звуковая палитра произведений писателя широка и разнообразна, она вбирает в себя характеристические краски именных сочетаний, объединяющих - ся на основании наличия у них семы звучания: «Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стенкой в аршине от его виска выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставшего обратно на стеклянную полочку; после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом - спуск воды, захлебывающийся, стонущий и вдруг пропадавший» («Дар»); «Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых...» («Другие берега»). Герой Набокова может слышать звуки, издаваемые неодушевленными предметами, которые недоступны слуху обычного человека. Букет цветов - в сознании простого человека - абсолютно беззвучный. В восприятии набоковского «я» букет ландышей обретает жизнь. Подобные словосочетания можно объяснить исходя из авторской способности подмечать и эксплицировать глубинные, скрытые признаки предметов, благодаря чему слова получают дополнительное, контекстуальное значение. Ср.: «звон молотка» и «звон одиночества», «уханье филина» и «уханье моря», «шорох птиц» и «шорох душа», «вздох ребенка» и «вздох пыли», «шум воды» и «шум крови», «шум любви», «мелодия вальса» и «мелодия хулы», «отзвук пальбы» и «отзвук разговора», «гул голосов» и «гул ночи».
Звуковой фон изображаемого усиливают эмоционально-оценочные эпитеты: призрачный, восторженный гул, бравурный храп, простосердечный звонок, гудящий туман, ковковое чмоканье, скользкий звук тела лебедя, плачущий звук восклицания, приглушенный кряк дупеля, скрипучие кожаные футболы, лающие обложки книг, вопрос, как микроскопический лай и т.д. Наиболее экспрессивными при этом являются окказиональные образования сложных прилагательных: ядрено-балагурный тон, басисто-багряные георгины, могильнороскошный сад, деревянно-рассыпчатый звук, туго скрипучий букет, тяжело- звонный поезд-люкс и т.п.
Эмоциональное напряжение в прозе Сирина создается также глаголами звучания: грянуть, хрустеть, рокотать, трещать, звенеть, шелестеть, скрипеть, сопеть, крякать, кричать, ворковать, стенать и т.д. Указанные предикаты могут сочетаться с существительными как на реалистической основе, в соответствии с языковыми правилами согласования, так и по законам «поэтического» языка», т.е. со словами, которые не имеют соответствующей сочетаемости, реалиями, в действительности не способными издавать таких звуков. Например, в сочетании «хрустел гравий» глагол «хрустеть» реализует общеязыковое значение «издавать звук», а в словосочетании «выхрустывая длинную тоску» данный глагол употреблен в переносном, метафорическом значении - «издавать звук, сигнализирующий о том, что человек одинок и испытывает душевные переживания, боль, страдание». Развитие ассоциативного значения произошло на основании ассоциативной семы «передавать боль, страдание» и позволило автору показать душевное состояние героя, а читателю - проникнуться сочувствием к нему. Анализ ассоциативного поля звучания обнаруживает у Набокова существование таких сочетаний, составляющие элементы которых противопоставлены семантически, т.е. представляют собой оксюморон: «Необыкновенная, оглушительная тишина, вывела меня из раздумья» («Приглашение на казнь»). «Беззвучно воя, уходил, запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания» («Дар»). Семантическая связь между компонентами сочетаний - оксюморонов возможна на основании наличия в их значениях общей семы (как правило, родовой, ядерной семы); видовые (периферийные) семы компонентов оксюморона взаимно противопоставлены, т.е. «лексемы (или группы лексем) словосочетания таковы, что в их значение входят элементы, которые соотносятся как «а» - «не а» и занимают одинаковые позиции в семантической структуре лексем» (Павлович 1979, 73). Так, в семантике слов оглушительный и тишина наличествует интегральная сема - звучание, и дифференцирующие семы - отсутствие/наличие звучания. Элементы данной лексико-семантической оппозиции определяют не только состояние окружающей среды, но и отражают состояние человека, помогают постигнуть внутренний мир героя Набокова. В результате насыщения текста подобного рода авторскими сочетаниями, занимающими значительное место в тезаурусе писателя, читатель получает возможность прикоснуться к авторскому восприятию действительности.
Своеобразие авторского мышления, восприятие мира и окружающей его действительности передается также через обонятельные ассоциации. Набоков и шагу ступить не может без того, чтобы не припомнить запахи, связанные с вещами, о которых он говорит. Люди, предметы, города, времена года - все обладает для него специфическими запахами. «Циновки и плетеные кресла пахнут вафлями и ванилью» («Другие берега») - в сознании читателя активизируется обонятельное впечатление от слов «вафли» и «ваниль» и возникает притягательный и всем знакомый с детства сладкий запах. При описании природы, которой в прозе Набокова принадлежит особое место, этому модусу отводится едва ли не ведущая роль. «Сырой, сытный запах парковых дебрей - смесь мо- ховицы, прелых литьев и фиалкового перегноя, - от которой вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца - переплетается с «ярким запахом цветов». Неизвестное для многих читателей понятие «запах бабочек» раскладывается с опорой на невербальные ассоциации адресата - запах ванили, лимона, мускуса: «Мои пальцы пахли бабочками - ванилью, лимоном, мускусом». В результате создается притягательный, несколько экзотический образ бабочек, убеждающий читателя в необыкновенной приятности «мохового, седого и рыжеватого рая».
Своеобразие идиостиля Владимира Набокова состоит также в широком пользовании смелыми метафорами, перенесенными на понятия, порождаемыми восприятием одной категории качеств, относящихся к восприятиям другой. Рассказ «Весна в Фиальте»: «Во впадине его [города] названия» Набокову «слышится сахаристо сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов». «Ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним», - заявляет писатель в «Машеньке». Может быть, именно поэтому обонятельный компонент лексического значения становится ведущим при раскрытии типичных для Набокова тем и мотивов: памяти, прошлого, воспоминаний. В «Даре» запах становится действующим лицом романа, «запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшейся самой за себя заскочившею тайной». В этом примере словесные указания на отдельные восприятия (в частности, слуховые и зрительные) сочетаются так, что вместо восприятий нам передается одно целостное впечатление.
способ реконструирования в сознании конкретной детали, конкретного предмета. Читатель как бы скользит взглядом по вещам, расставленным автором в нужном порядке. Со страниц набоковских книг перед нами встают предметы материального мира: «круглый желтый стол со сточной дырой посередине», «корзин- ка...вечно запачканная черникой», «большой диван с клеверным крапом по белому кретону», «крупная гортензия в объемистом вазоне», «множество чудных растеньиц в парковых дебрях», «семейка боровичков в тесных чепчиках» «... над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками». В создании зрительного модуса восприятия центральная роль принадлежит прилагательным со значением цвета, передающим многоцветие конструируемого мира: «темно-коричневая, с лиловой голубизной болория скользила.», «проносилась гонобоблевая желтянка, оттороченная черным и розовым», «восхитительно-крепкое, гранатово-красное хрустальное яйцо», «зеленоватобурая шерсть плаща», «янтарно-коричневая шляпка гриба», «бирюзовые розы обоев», «мрачно-фиолетово- зеленые картины», «сине-красное сердце», «бирюзовые вышки мечети», «розовая церковь», «голубое сукно», «карие вагоны», «кофейный снег», «пунцовый автомобиль», «рубиновое брюшко»; «желтый, заряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией», «сад в бело-розово-фиолетовом цвету», «розовые и багряные георгины». При этом границы между относительными и качественными прилагательными колеблются, а порой и вовсе стираются. Ср.: бронзовые кляксы сургуча, молочный кончик карандаша, витые золотые леденцы, серебряная роща, золотой крик иволги, лунные глобусы глаза, серый, с гуттаперчивым отливом купол, в изумрудном свете березовые рощи. Для идиостиля Набокова характерны также сложные прилагательные, одна из частей которых - качественное, а другая - относительное прилагательное: желто-коричневый деревянный гигант (о карандаше), чисто-серебряное перо, шелковисто-багряные крылья бабочки, черно-волосатая кисть руки, озонно-лазурный оттенок, райски- зеленая окраска холмов, дымчато-романтический цвет женитьбы, в дымчатобисерной траве. Заметим, что через цветопись передается очень важная для картины мира Набокова оппозиция: эмиграция - Россия. Сравним: «Все, что я помню об этом бесцветном сквере, это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками (о Германии)» и «Пропитанная солнцем, березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве.» (о России). Здесь важно отметить значимость цветопередачи. «Эмигрантское пространство» - бесцветное; в России же - это самые яркие краски, что подчеркивается необычными метафорами и сравнением березовой листвы с виноградом. Изучение леса - «рая» конструируется из отдельных деталей, показанных крупным планом, при этом Набоков использует разные средства, вследствие чего репрезентируемый предметный мир воссоздается в результате взаимодействия языковых и внеязыковых слоев. Описание как тип повествования позволяет «повернуть» слово к читателю наглядной стороной его содержания, конкретизируя представление, отмечая деталь, добиться его «выпуклости».
Осязательные ассоциации реализуются в следующих примерах: «Одной рукой он держался за калитку, и росистое ощущение железа было самым острым из всех воспоминаний» («Машенька»); «Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун» («Рождество»).
Встречаются у Набокова и примеры вкусовых ассоциаций: «Маленький, бородатый мытарь: нежный, бледный, на вкус напоминающий яблочную пастилу» («Дар»).
Зрительные ассоциации часто пересекаются со слуховыми, осязательными, тактильными и вкусовыми. Активизация в значениях предметных слов наглядно-чувственного компонента создает дополнительный эффект соучастия и сопереживания читателя при прочтении текста: «Клуб был с тучными кожаными креслами, с лоснистыми журналами на столах, с глухонемыми коврами»; «Мартын, склонив одно колено, затянул запяточный ремень, отогнув тупой рычажок боковой пряжки. Морозный металл ужалил пальцы» («Подвиг»); «Звук вздувался куполком»; «Цвет дома, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом» («Дар»); «...над кустиком голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод», «.карий блеск до боли холодных мочажек» («Другие берега»); «.неизъяснимую, непорочную нежность, проступающую сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть» («Лолита»). «Во впадине его [города] названии слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов» («Весна в Фиальте»).
Часто в текстах Набокова возникает ситуация, когда герой через обонятельные и осязательные ощущения пытается восстановить зрительные и слуховые, например, мир детства в рассказе «Звонок». Сын приезжает после долгой разлуки в эмиграции к матери, одиноко живущей в Берлине. Вот как описывает Набоков радость героя: «Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, - ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавая ее всю, с головы до пят, и только одно в ней было новое (но и это новое неожиданно напомнило самую глубину детства - когда она играла на рояле) - сильный, нарядный запах духов - словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она старела, и не душилась больше, и потом так горько увядала, - в те бедственные годы, - словно всего этого не было, и он из далекого изгнания попал прямо в детство». Однако мир детства остается лишь миром мечты. Вначале, глядя на мать после многолетней разлуки, сын замечает, что ее «лицо было раскрашено с какою-то мучительной тщательностью». А потом, когда он понимает, что эта молодящаяся женщина из-за его неожиданного приезда была вынуждена отменить визит какого-то очень важного для нее гостя (любовника), он видит: «Мать, полулежа на кушетке и уткнувшись лицом в подушку, вздрагивает от рыданий. В прежние годы он часто видел ее плачущей, но тогда она плакала совсем иначе - сидела за столом, что ли, и, плача, не отворачивала лица, громко сморкаясь, и говорила, говорила, - а тут она рыдала так молодо, так свободно лежала... и было В том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола. Прямо можно подумать, что это плачет молодая белокурая женщина. И платочек ее, как полагается, лежал комочком на ковре». Текстовая парадигма «каким-то внутренним взором узнавая ее всю - самую глубину детства - нарядный запах духов - словно не было тех промежуточных лет» (в основном, через зрительные и обонятельные ассоциации) актуализирует ситуацию «воспоминания», а «рыдала так молодо - так свободно лежала - что-то изящное в повороте ее спины - что одна нога в бархатном пиджачке касается пола - можно подумать - как полагается» - ситуацию иллюзорности, «подстроенности». Мы бы соотнесли данный парадигматический ряд со словом-стимулом «кино» («кинематограф»), не эксплицированным в тексте, но характерным для поэтического дискурса Набокова15. Сам же писатель существует в своих произведениях как зритель, который не только наблюдает происходящее, но и одновременно живет жизнью своего героя, вернее, сразу двумя жизнями - реальной и воображаемой. Но даже не это является его отличием от других авторов. Набоков обладает способностью особого, удивительного зрения: он как бы пытается видеть сразу в нескольких плоскостях. «Меня, как начинающего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно в общем стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой» («Другие берега»). Перед нами колоритный способ создания антитезы. В данном текстовом фрагменте противопоставляются как существительные «перед» - «изнанка», так и определяющие их прилагательные «стройный» - «толстоватый». Они не являются полными узуальными антонимами, однако соотносятся с ними в языковом сознании коммуниканта. Представленные оппозиции наделены дополнительными ассоциативными признаками, стимулированными текстом. Во-первых, персонаж за счет синтагматических ассоциативных связей соотносится с фигурой в игре, во-вторых, мы видим, что человек уподобляется неживому предмету. И, наконец, слова «перед» и «изнанка» используются в этом отрывке в незафиксированных словарями окказиональных значениях. «Перед» - «передняя часть чего-нибудь»; «изнанка» - «1)внутренняя сторона ткани, одежды; 2)скрытая сторона чего-нибудь». В тексте слова «перед», «изнанка» характеризуют внешнее несоответствие человека определенным стандартам, и, что непосредственно характерно для авторской картины мира, отражает через особенность восприятия индивида специфическое зрение творца-художника. Окказиональные образования, основанные на детализации и актуализации зрительных ассоциаций, отличаются в идиостиле В. Набокова тонким психологизмом. Давно замечено и то, что наибольшей реальностью для Набокова обладают образы воображения и фантазии - точно как у Декарта в его предметах идеального мира, мыслях отчетливых и ясных. Так, например, даже описывая образ, который предстает перед его героем в наваждении, Набоков подмечает в нем отдельные детали: «Пресная старческая слеза увлажняла розовые отвороты век» («Истребление тиранов»). «Пресный» - «лишенный соли», «пресная слеза»; «отвороты» - «отогнутые края», т.е. «отвисшее веко, которое как бы отогнули». Стимулы «пресная слеза» и «отвороты век» ассоциируются со старостью (на основе референтных ассоциаций, соотносимых с понятием «старость») - к старости все соли из организма вымываются, веки на глазах у старика напоминают отвороты чулков.
Важно отметить, что под деталью понимается не только изобразительная подробность («пятна тени» или «пыльный луч солнца»), но и целый эпизод, портрет, пейзаж, словом, все части, из которых произведение складывается «само»: «содержание представляется как то, что в нем непосредственно «содержится» (Юркина 1995, 82).
Приведем в качестве примера фрагмент, смысловыми вехами в котором являются слова ассоциативного поля «грибы»: «Любимейшим ее [матери] летним удовольствием было хождение по грибы... Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как например то, что сыроежки или там рыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода Boletus, боровики, подберезовики подосиновики. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудесных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым сытным запахом - смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, - от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, пока не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках или мрамо- ристый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.
Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой - вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Вот. лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое казалось бы должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье ...Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце бывало бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной изогнутой ножке прилип родимый мох.».
Ассоциативное поле «грибы» объединяет целую группу слов-ассоциатов по общности их внутренних, скрытых компонентов содержания. Для исследования специфики тезауруса писателя особенно важны смысловые связи, базирующиеся на периферийных компонентах семантики: «классически просто и округло построенные - концентрическими кругами - ревниво сдержанное упоение - грибное счастье - подобие дымчатого ореола». Этот ассоциативный ряд не только с особой силой демонстрирует особенности художественной манеры Набокова (заметим - появляется набоковский «круг»), но, в ореоле своих ассоциативных связей позволяет воплотить в тексте дорогой для автора мир, утраченный рай, и вызвать созвучные ассоциации, теплые эмоции у читателя. Семы «родной, живой» актуализированы в следующих словосочетаниях «семейка боровичков - мрамористый «гусар» (о грибе) - белесый березовик - старые, с рыхлым исподом-молодые и крепкие (о грибах) - родимый
В ассоциативном поле «грибы» четко выделяются наглядно-чувственные компоненты значения, репрезентирующие все четыре модуса восприятия. Формирование зрительного образа для Набокова - это прежде всего способ реконструирования в сознании конкретного предмета: «круглый железный стол со сточной дырой посредине», корзинка - вечно запачканная «лиловым снутри». Зрительные образы формируются также за счет многообразия цветовой гаммы описываемого фрагмента действительности, в текстовое ассоциативное поле «грибы» входит большое число признаковых слов, обозначающих не только цвет и окраску, но и форму предмета, особенности его конфигурации и т.д. Картина дополняется и приобретает некую смысловую законченность благодаря зрительным, осязательным и обонятельным ассоциациям: «из-под капающей и шуршащей сени парка», «испускает вздох преувеличенной усталости», «склизкой от сырости садовой скамейки», «лоснились на столе грибы», «сырым, сытным запахом», «раздуваются ноздри петербуржца» и т.п.
Смена планов описания задает определенную динамику повествования, что обусловило вхождение в ассоциативное поле «грибы» глагольной лексики: вылезало, шарить, пускалась, приближавшуюся, выкладывает, считает, сортирует, выбрасываются, уделяется забота.
В набоковской эстетике существует понятие «цветного слуха», который передается «осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем». «Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву пересмаковать, дать ей набухнуть и излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор» («Другие берега»). Каждый звук, каждая буква ассоциируются с определенной зоной радужного спектра: «Находим... красную группу с вишнево-кирпичным Б ... розово-фланелевым М и розовато-телесным В; желтую группу с оранжевым Е, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым А, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т; и наконец синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, чернильным К и блестяще-сиреневым З».
Многообразие модусов восприятия текста дает читателю возможность ощутить объемность создаваемого автором мира, а наглядно-чувственные детали описания восполняют определенные информационные лакуны в сознании читателя.
Эту основную часть своего метафизического кредо наиболее полно раскрывает В. Набоков в эссе «Литература против здравого смысла», где речь идет о превосходстве детали над общим, «части, более живой, чем целое, той малости, которую замечает человек и приветствует дружеским кивком в момент, когда окружающая толпа увлечется общим импульсом». Более того, говорит Набоков, «эта способность дивиться мелочам, несмотря на грозящую опасность, эти побочные явления духа, эти примечания к книге жизни - суть высшие формы сознания.» (Набоков 1995, 85).
Невнимание, пренебрежение деталью может, по Набокову, не только обеднить и исказить образ мира, не только лишить жизнь смысла («Он [Креч- мар] с ужасом замечал теперь [ослепнув], что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья» («Камера обскура»), а человека - души («Он любил рассказывать о своем брате Василии, - по- видимому, лихом малом, женолюбе, музыканте, забияке... Но это все выходило в передаче милого Л. И. так скучно, так основательно, так закругленно.» («Памяти Л. И. Шигаева»), но и таить куда более материальную, ощутимую угрозу. Повествователь в рассказе «Истребление тиранов» вспоминает юность диктатора: «Помню, его городские, неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту, между незамеченных нив».
Для Набокова смешение оводов со шмелями, а десятью строчками ниже - еще и с осами, которое Федор Константинович находит у Некрасова, «в его «часто восхитительной» поэзии» - и страшные сцены геноцида - явления одного рода. «Варварские расовые и социальные мифы - следствие низкой разрешающей способности духовных глаз их носителей. Какими бы вообще справедливыми и в целом высокогуманными ни были цели таких людей, как Чернышевский, «мелочи» - неразборчивость в насекомых, пушкинобоязнь и фетофобия, эстетическая неряшливость - все это закономерно ведет от них к тоталитарному аду.
«Совершенно осознанно он бросил вызов духу времени, - отозвался о творчестве Владимира Набокова П. Кузнецов, - предпочтя единичное, неповторимое, случайное всеобщему и универсальному; узор на крыльях бабочки - «мировым проблемам» (Кузнецов 1992, 243).
Существенную роль в становлении личности писателя сыграли литература и искусство, в значительной степени определив своеобразие его текстов, в которых психологизм и динамика повествования органически сочетаются с лейтмотивностью, музыкальностью, ритмом произведения. Тонкая музыкальность - яркая отличительная черта прозаических произведений Набокова. Набоков сам не раз заявлял о том, что существует множество параллелей между художественными формами музыки и литературы. Например, в одной из своих лекций писатель заявляет, что сюжет для него - это прежде всего тематические соответствия, «образы или идеи, которые вновь и вновь возникают в романе подобно тому, как мелодия вновь и вновь возникает в фуге» (Набоков 1991, 74).
Сквозь призму музыкальных ассоциаций автор «видит» человека и окружающую его реальность. Находясь в центре набоковского мироощущения, мотив музыки становится концептуально значимым в эстетической системе писателя. «Музыкальные» метафоры оживают и актуализируются в лексической структуре ключевых концептов индивидуальной картины мира Сирина: жизнь, память, творчество, язык, любовь, судьба, смерть: «Этого требует музыкальное разрешение жизни», «Звенел, выплывший из музыкального ящика памяти, романс» («Приглашение на казнь»); «Любовь «Фраза, полная удивительной музыки правды.», «Мы имели в виду следующую магическую гамму судьбы» («Дар»); «Пьяные от итальянской музыки аллитераций, ничтожные, бренные стихи» («Тяжелый дым»). «Когда появляются эти бурные, задыхающиеся аккорды, это значит, что скоро конец. Вот тоже интересное слово: конец. Вроде коня и гонца в одном. Облако пыли, ужасная весть. Весною она странно помертвела. К ночи она умирала совсем» («Музыка»).
Фонетически эта связь выражается в созвучии лексем: «За это бы судьба, союзница муз. ему и отомстила» (муза - музыка). Функция ритмико-звуковой организации текста, связанная с привнесением в текст особых звуковых и ритмических эффектов приобретает порой особый ритм и рисунок: «Да-с, господа- с, супружество Джо и Дженни возбуждает джуджание»; «А еще заплаканный снимок Пропавшей Девочки, четырнадцати лет, юбка в клетку и рифму / берет, обращаться к шерифу / Фишерифу, Фишерифму» («Лолита»).
Музыкальность прозы Набокова передается за счет ассоциативных пар формально-смыслового типа. Например, «Вся затея с пилюлькойлюлькой... имела целью навеять сон» («Лолита»). Ассоциативная смысловая сопряженность слов возникает за счет общей ситуации: «пилюлька» - подсунутая Г умбертом Лолите таблетка, вызывающая сон; «люлька» - подвесная колыбель, в которой засыпали младенцы.
О «музыкальности» мировидения писателя свидетельствуют также сравнения, которыми насыщены его прозаические тексты: «Электрический поезд проскользнул », «Среди берез была одна, издавна знакомая, - с двойным стволом, береза - лира», «Бархатным голосом пел шоколадного цвета шкапчик под пальмой» («Дар»), «Турати, как бас перед выступлением, густо прочищал голос» («Защита Лужина»).
Нередко ассоциативное поле «музыка» полностью организует содержательную и эмоциональную тональность произведения. Так происходит, например, в рассказе «Весна в Фиальте», в названии которого уже звучит нежная музыка, или романе «Защита Лужина», в котором мир шахмат и мир музыки постоянно пересекаются («комбинации, как мелодии»). Мы можем утверждать, что мотив музыки является концептуально значимым в организации индивидуальной картины мира В. Набокова.
Следующий ключ к пониманию набоковского стиля - его концепция организации мимикрии в природе16. Природа и искусство для Набокова имеют много общего. «Литература - это вымысел, - говорил В. В. Набоков в своих лекциях по литературе. - А вымысел и есть вымысел. Назвать историю правдивой - значит погрешить и против вымысла, и против правды. Каждый большой художник - большой обманщик, но самый большой обманщик - природа. Природа всегда обманывает: от простых хитростей в размножении видов до изощренных уловок в защитной окраске бабочек и птиц - все это единая система таинственных мистификаций и хитроумных замен. Писатель в своей фантазии только следует за природой» (Юркина 1995, 86).
Не зря так много места в своей жизни В. Набоков уделял любимому увлечению - энтомологии. Тесная связь между творчеством и бабочками организует авторскую картину мира. «Страсть к коконам и куколкам, - говорит Набоков, - находится за пределами мира романиста... Когда бы я ни упоминал бабочек в своих романах и как бы старательно ни перерабатывал эти мысли, все остается бледным и фальшивым и не выражает по-настоящему то, что я хотел бы выразить. так как выразить это можно, лишь употребляя специальные научные термины... В одном случае энтомологический спутник сталкивается с моей литературной планетой - это происходит при упоминании некоторых названий мест. Так, если я слышу или читаю слова «Альп Грам, Энгадин», то обычный наблюдатель внутри меня заставляет представить себе номер с живописным видом в маленьком отеле, примостившемся на двухкилометровой высоте, и косарей, работающих вдоль спускающейся к игрушечной железной дороге тропинки, но более и прежде всего я вижу желтокольцовую, устроившуюся со сложенными крылышками на цветке, которую сейчас обезглавят эти проклятые косы. Бабочка Набокова - это символ хрупкой красоты, обреченной на гибель.
Проза Сирина полна бабочек. Со страстью коллекционера можно собирать не самих бабочек, но их упоминание в набоковских текстах. Так, например, в романе «Другие берега» наряду с одиннадцатью названиями насекомых представлено двадцать три терминологических. Обилие терминов в художественном произведении отражает своеобразие лексикона В. Набокова, в котором воплотились фрагменты тезаурусов ученого-энтомолога и писателя.
Каждое слово, представленное в индивидуальном лексиконе, оказывается эмоционально заряженным. Слова, связанные с семантическими полями «бабочки» и «собирание бабочек» несут большую эмоциональную нагрузку в индивидуальной поэтической картине мира В. В. Набокова. Текстовым показателем авторского отношения к денотатам служат признаковые слова, в значениях которых актуализированы семы «приятное, доставляющее наслаждение». Ср.: «великолепные смуглые сатириды-энемы», «восхитительная бабочка», «черная, со ржавчиной эребия, появляющаяся с таинственным постоянством только каждый второй год», «трепетная диковинки», «восточный подвид тополевой нимфы» (о бабочке).
В неожиданном контексте появляется «бабочка» в рассказе Набокова «Пильграм». «Улица... без витрин, без всяких радостей... меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительном скрежетом ... появлялись фруктовая лавка, табачная... колбасная, полная жирных коричневых удавов и вдруг - магазин бабочек». Бабочка - символ волшебной мечты, призрачности смерти - оказывается в совершенно не свойственной для нее атмосфере, атмосфере «овеществления» жизни, а значит и «овеществления» мечты героя, суть которого в ассоциативной соотнесенности со словом «магазин» и рядом других слов, описывающих «мертвый» мир, окружающий героя. Хотя лексема «вдруг» сигнализирует о чем-то неожиданном, являясь толчком для смены повествования, дальнейшее описание бабочек не просто возвращает нас в набоковский мир, где автор не скупится на краски: «яркие», «какие краски», «невероятно», «задерживались в памяти», «с большими удивленными глазами», «лазурные крылья», «с изумрудной искрой». У нас на глазах происходит своеобразное «воскрешение» мертвой природы, картина диковинной расцветки крыльев бабочки создает иллюзию вечности, преодоления смерти. Заметим, что трехкратное повторение слова «крылья» (крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой) - символ легкости, воздушности, полета - семантически оппозиционно определению «грузный», которым дважды награжден Пильграм. Присутствующая в подтексте и апеллирующая к опыту читателя ассоциативная информация о симметричности бабочек контрастирует с описанием «неровно подстриженных» усов героя, глаз, «из которых правый был открыт чуть пошире левого»: так исподволь формируется представление о «неровности», неравновесии внутреннего мира персонажа, получающее в дальнейшем эксплицитное выражение. И, наконец, в этой же плоскости лежит стопроцентная антитеза «крылья с большими удивленными глазами» - «равнодушные слезящиеся глаза». Она осложнена еще и 17 тем, что в первом случае «глаза» - это метафора, ассоциативным путем раскрывающая многозначность, внутреннее богатство мира природы-мечты, могущей преодолеть смерть красотой: применительно же к облику Пильграма слово «глаза» употреблено в прямом значении, что, возможно, говорит об однозначности, одномерности человеческого мира, к которому герой рассказа, при всей своей обособленности, принадлежит. «Удивленные глаза» - признак жизни, продолжающейся и после смерти; «равнодушные глаза», при потенциальном множестве толкований, могут свидетельствовать и о том, что жизнь остановилась на некоей точке, не дойдя до своего формального конца.
Очень интересной для анализа представляется и тематическая группа слов «Принадлежности для ловли и коллекционирования бабочек». «Ловитвен- ные принадлежности» для Набокова - вещи особые, служащие для проникновения в чудесный мир бабочек - «рай». «В отношении многих человеческих чувств - надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели - полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных, и лабораторных, стоят у меня на почетнейшем месте», - заявляет писатель в «Других берегах».
Показателем принадлежности рассказчика к особому «братству» коллекционеров - людей, вызывающих неприятие и удивление со стороны обывателей, неколлекционеров, служит слово-символ сачок: «Не было случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся бы и не увидел каменеющих по мере своего появления поселян, малютки надрывно спрашивали - что это такое - у своих озадаченных мам»; «... энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то спутанное в своих ближних».
Художественный текст воплощает различные пережитые писателем состояния, впечатления или видения. Так, текстовое ассоциативное поле слова сачок сачок - предмет, который необходимо иметь при себе - на пикнике, прогулке, в поездке за границу.
Восприятие слов сачок и рампетка, не актуальных для лексикона большинства читателей, основывается главным образом на текстовых ассоциативных полях. В тексте происходит наведение окказиональных сем в значении слова сачок - предмет, связанный с приятным, увлекательным времяпрепровождением: «И как бы на горизонте этой гордыни сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места, которые я с кисейным сачком в руке исходил» («Другие берега»).
Ассоциации, устойчиво закрепленные в сознании автора и неоднократно эксплицированные в художественных текстах, сохраняющие некий инвариантный смысл, можно квалифицировать как индивидуальные сквозные межтекстовые ассоциации - символы. «Умение Набокова восхищаться витающими в пространстве предметами и воплощать их на бумаге посредством символов и составляют его гениальность и мастерство», - писал о Набокове Юрий Иваск (Классик без ретуши 2000, 465). Так, например, символ «зеркало» является традиционным символом воображения, познания, способности к отражению предметов в реальной жизни18. Однако в противовес реалистическому представлению о прямом, зеркальном отражении Набоковым выдвигается идея смещенности (сдвига) изображения по отношению к изображаемой реальности: «...из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием.» (Дар»). Отображение оказывается равноценным реальности: из фургона выгружают не зеркало, отражающее небо, а «параллелепипед. неба». При этом происходит отражение не прямое, а как бы «сдвинутое»: характер отражения определяется и свойством отражаемого предмета («реальности»), и свойствами зеркала, колеблющегося при ходьбе несущих его людей. Книги Набокова - сложные системы зеркал, которых множество, они «вставлены» и в абзацы, и в главы, и в отдельные фразы («Зеркало насыщено июльским днем», «Другие берега»). Идея зеркала живет во всех рассказах и романах Набокова. Зеркальные образы в разных художественных произведениях актуализируют различные ассоциативные компоненты. Ключом к художественной лаборатории Набокова считают исследователи его рассказ «Облако. Озеро. Башня», в котором в миниатюре изложены все основные темы Набокова. Символ зеркала в нем выполняет синкретичную функцию, так или иначе он соотносится со всеми лексемами, вынесенными в заголовок. Обращенная в небо башня как бы открывает в произведении «вертикаль», которая традиционно связана с духовностью, так как «вертикаль» - это обращенность вверх, к высшей реальности: «На той стороне. На холме, густо обставленном древесной зеленью (которая тем поэтичней, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня». Зеркало символизирует единство земного и небесного (отражающихся друг в друге): «Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посредине отражалось полностью большое облако». Зеркало в рассказе присутствует имплицитно - на него указывает глагол «отражалось». Но, вербально не выраженное в тексте, этот образ несет на себе основную функцию - выражает гармонию трех начал: культуры (башня), природы (озеро) и духа (облако). В приведенном текстовом фрагменте это подчеркивается ассоциативной соотнесенностью лексем «чистый», «синий», «вода». Синий цвет символизирует «бесконечность, вечность, чистоту духовную и интеллектуальную жизнь». Причем в «Словаре символов» отмечается, что «синий цвет неба - это наиболее спокойный и в наименьшей степени «материальный» из всех цветов». Вода - это также символ чистоты и источник самой жизни. Зеркало становится олицетворением особого мира, где все связано узами родства и все гармонично сочетается, дополняя друг друга: «Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей... был чем-то таким единственным...». Поскольку окружающий героя мир поражает своей пошлостью: это мир людей, похожих друг на друга именами, внешностью, поступками, персонаж Набокова ищет чего-то другого, близкого его «я»19. Благодаря тому, что зеркало несет на себе пространственную характеристику, происходит гармоничное слияние двух миров: мира мечты и мира реального. Однако этот идеал для героя недостижим, ему не разрешается остаться на озере, обретение счастья в этом мире оказывается невозможным, расколотость преодолеть не удается. Изгнание из мира гармонии в рассказе приобретает более широкие черты, свойственные картине мира Набокова: это изгнание из прошлого, из России. Физически герой находится в этом мире, духовно - в потерянном мире мечты.
Мир отражений и зеркал - одна из характерных примет и англоязычной прозы Набокова. Например, описание номера, в котором Гумберт провел первую ночь с Лолитой, буквально построено на зеркальных ассоциациях: «Двуспальная кровать, зеркало, двуспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отраженная в нем кровать, такая же кровать в шкафном зеркале, стол со стеклянным верхом ...». А история Пнина («Пнин») практически является отражением, так как «воссоздается воображением повествователя», поэтому зеркальный ассоциативный принцип пронизывает все семь глав романа. Ассоциативное поле «зеркало» отличается своей полифункциональностью. Во-первых, текстовое ассоциативное поле «зеркало» подчеркивает связь вещи и человека. Например, зеркальный шкап в «Даре» - это метафора творчества и вместе с тем человек, который его несет, передавая ему ритм своих движений.
Во-вторых, отношения «человек - человек» также определяются зеркалом: герои набоковских произведений отражаются друг в друге, становясь двойниками: «Я желал, чтобы, несмотря на старость, на бедность, на опухоль в животе, Василий Иванович разделял бы страшную силу моего блаженства, соучастием искупая его беззаконность: так, чтобы оно перестало быть ощущением никому не известным, редчайшим видом сумасшествия, чудовищной радугой во всю душу, а сделалось хотя бы двум только человекам доступным («Набор»). Здесь автором намечается один из важнейших в его творчестве концептов - «связь»: без зеркала невозможно обрести связь с окружающим миром. Ас- социаты на стимул «ощущение»: «беззаконность», «никому не известным», «редчайшим видом сумасшествия», «чудовищной радугой» - отражают противостояние двух миров: внутреннего мира героя, существующего за пределами реальности, и мира внешнего, мира «других». Ассоциаты «разделял бы», «соучастие», «перестало быть», «доступный», воплощенные во второго человека через зеркальное его отражение, указывают нам на важный момент в мироощущении писателя - он признает возможность существования «мы» в материальном мире. Ассоциативное поле «связь» «вырастает» в произведениях романной структуры, расширяя границы понятия «зеркало». «Меня нет, есть только тысячи зеркал, которые меня окружают» («Соглядатай»). «Глядеться во все зеркала», «быть в добрых отношениях с зеркалами» - значит быть в гармонии с миром. «Кривое», «ненормальное зеркало», «зеркало-чудовище», «зеркало с безуминкой» сигнализирует о разрыве этой связи. Разбитое зеркало означает смерть двойника (Герман обретает себя в доме, где нет зеркал),
Но чаще в его произведениях мы наблюдаем другое: «Перед зыбким зеркалом все такой же бледный, с лоснистым лбом, чернобородый юноша в одной рваной рубашке, и хлещет спирт, чокаясь со своим отражением. Ах, какое это было время! Я не только никому на свете был не нужен, но даже не мог вообразить такие обстоятельства, при которых кому-либо было бы дело для меня» («Памяти Л.И. Шигаева»). «Зеркало» усиливает одиночество героя.
Таким образом, «зеркало» коррелирует с понятиями «я», «другой», а ситуация познания другого через себя и себя как отраженного является частью «поэтической лаборатории писателя». Но ассоциативную сущность символа определяют не только личный опыт и индивидуальное авторское восприятие мира, но и информационный тезаурус автора (ср. значимость когнитивных те- заурусных ассоциаций). Таким образом, сквозные межтекстовые ассоциации могут быть основой как индивидуальных, так и традиционных символов. Первые связаны с уникальными ассоциациями, вторые - с типовыми (языковыми и когнитивными).
Следует обратить внимание и на случаи аллюзивного ассоциирования. Например, по поводу своего учителя Ленского Набоков в мемуарах пишет: «Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень честный, порядочный человек, тяжеловесные диктанты которого я до сих пор помню: «Что за ложь, что в театре нет лож. Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей» («Другие берега»). Этот фрагмент соотносится по меньшей мере с двумя предшествующими набоковскими текстами: «Это ложь, что в театре нет лож, - мерно диктовал он [Лужин-старший]. И сын писал, что лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах и оставляя просто пустые места на словах «ложь» и «лож» («Защита Лужина»). А в романе «Под знаком незаконнорожденных» фигурирует Конкордий Филадельфович Колоколитейщи- ков по прозвищу «Кол». Внутреннее единство приведенных текстовых парадигм заключается и в их соотнесенности к единой теме, являющейся ключевой в творчестве Набокова - все они связаны с детскими воспоминаниями автора.
Аллюзивная функция в сочетании с иронической обнаруживается в знаменитом месте романа «Отчаяния», где повествователь, готовящийся совершить преступление и вместе с тем собирающийся написать об этом совершенный в эстетическом отношении опус, сокрушается о недостаточной изощренности своих литературных предшественников: «Поговорим о преступлениях, об искусстве преступления в карточных фокусах, я сейчас осень возбужден. Конан Дойль! Как чудесно ты мог завершить свое творение, когда надоели тебе герои твои! Какую возможность, какую тему ты профукал! Ведь ты мог написать еще один последний рассказ, - заключение всей шерлоковой эпопеи, эпизод, венчающий все предыдущие: убийцей в нем должен был бы оказаться не одноногий бухгалтер, не китаец Чинг и не женщина в красном, а сам Пимен всей криминальной летописи, сам доктор Ватсон, чтобы был бы, так сказать, виноватсон».
О своем пристрастии к формальным ассоциациям В. Набоков пишет в предисловии к роману «Под знаком незаконнорожденных»: «В мире слов парономазия есть род словесной чумы, прилипчивая болезнь; неудивительно, что слова чудовищно и бездарно искажаются в Падукграде, где каждый представляет собой анаграмму кого-то еще. Книга кишит стилистическими искажениями - каламбурами, скрещенными с анаграммами (во второй главе русская окружность, «круг», преобразуется в тевтоновский огурец, «durk», с добавлением аллюзий на Круга, обращающей свое хождение по мосту); подмигивающими неологизмами («амарандола» - местная гитара); пародиями на повествовательное клише («до ушей которого донеслись последние слова» и «видимо, бывший главным у этих людей», вторая глава); спунеризмами («наука» - «ни звука», играющими в чехарду в семнадцатой главе); и, конечно, гибридизацией языков» (Набоков 1990).
В целом, как видно из примеров, нетиповые, маловероятные ассоциации в идиолекте Набокова воспринимаются как языковая игра, и, кроме того, выполняют другие, нетрадиционные функции.
Итак, в этом параграфе нами исследована специфическая черта идиостиля Набокова - высокая ассоциативная способность языковых единиц, когда они, вступая в разного рода парадигматические и синтагматические отношения в лексической структуре прозаического текста, перерастают в объемный многоплановый образ; несут в себе не только колоссальный прагматический заряд, но и большую смысловую нагрузку; по сути дела являются воплощением какой- либо микроидеи, какого-либо фрагмента индивидуальной поэтической картины мира писателя.
Расширить представление об языке и стиле писателя позволяет изучение межтекстовых ассоциативных связей слов.
2.2. Межтекстовые ассоциативные связи слов как способ отражения
поэтической картины мира В. Набокова
Невзирая на большое количество работ, посвященных интертексту и интертекстуальности, проблема межтекстового взаимодействия по-прежнему остается поистине неисчерпаемой. «Случается, - пишет В. Набоков, - что передатчиком воздействия одного писателя на другого оказывается третий, или образуется целая амальгама воздействий. Это дело совершенно непредсказуемо»1.
Герои набоковских произведений переговариваются с З. Фрейдом, ведут полемику с Н. Г. Чернышевским, без конца цитируют классиков мировой литературы: Фета и Тютчева, Пушкина и Лермонтова, Чехова и Достоевского, Толстого и Г оголя, Блока и Бунина, Г ете и Шекспира, Джойса и Стерна, Флобера и Эдгара По.
Так, например, нити ассоциаций и тайных связей, пронизывающие роман Сирина «Отчаяние», выводят нас к «Пиковой даме» А. С. Пушкина и «Двойнику» и «Преступлению и наказанию» Ф. М. Достоевского. Набоков называет своего героя Германом Карловичем, а его жену - Лидой. (Ср.: у Пушкина - Герман и Лиза). Как и пушкинскому персонажу, набоковскому Герману присущи настойчивость, расчетливость, способность идти до конца, не остановив- тттись ни перед обманом, ни даже преступлением (не убив графини, Герман все же виновен в ее смерти). Уже в пушкинском Германе виден перелом романтической страсти (карточной игры) и перерождение ее в страсть расчета и денег, т.е. приближение к тому человеческому типу, который в X1X веке постепенно начинает преобладать в жизни. Герман у Набокова - коммерсант средней руки («усреднение героя»), имеющий отношение к производству шоколада (ироническая деталь - намек на сладость, приторность, пресыщенность в жизни, в манерах, привычках, одежде, которых не было у героя Пушкина). Его жена Лида - двойник Лизы из «Пиковой дамы» в ином времени и иных обстоятельствах. Бледная, независимая мещанка, несамостоятельная в поступках и поведении.
Цит. по: Александров В. Набоков и серебряный век русской культуры // Звезда. - 1996. - №11. - С.216.
«Цитация» из Пушкина не ограничена «Пиковой дамой» и модификацией судеб пушкинских Германа и Лизы. Помимо «Пиковой дамы» в набоковском романе чрезвычайно важен пушкинский мотив «На свете счастья нет» из стихотворения «Пора, мой друг, пора». И хотя именно эти слова в нем отсутствуют, а цитирование начинается со слов «...а есть покой и воля...», они составляют философскую основу романа. Она заключается в том, что «на свете счастья нет», ибо все пути ведут в духовный тупик. «Покой и воля» недостижимы для героя, хотя, совершая самоубийство через убийство двойника, Г ерман стремится именно к ним.
Мотив убийства у Набокова носит признаки заимствования у Достоевского, и образы Германа - Феликса перекликаются с образами Раскольникова и Двойника. Двойник набоковского героя - не игра его больного воображения, не его совесть, не обособившаяся вторая натура. Двойник Набокова - непостижимая игра природы, и только. Герой пытается сейчас же употребить это обстоятельство себе на пользу. Убийство двойника - это и есть символический жест использования другого, крайняя степень заложенного в человеке отрицания другого, вражды к другому, в то время как герой Достоевского мучается враждебностью мира, своим бессилием и несмелостью, терпит издевательства двойника, но не осмеливается его убить20.
Если обратиться к истории создания романа «Отчаяние», то на поверхность всплывет еще один факт. Среди перебираемых вариантов названия, которые автор хотел дать своему роману, один - «Портрет автора в зеркале» - вызовет непременно ассоциации и с «Портретом Дориана Грея» О. Уайльда и с романом Дж. Джойса «Портрет художника в юности». Следует заметить, что тип джойсовского героя оказывается близок многим персонажам Набокова. И Герман - не исключение. Это обычный человек, не тот, кто по традициям наделен выдающимися свойствами. Интересны не поступки и действия, интересна внутренняя жизнь героя. И замысел джойсовского романа - мир, пропущенный через сознание героев и тем самым представленный не объективно, а субъективно - близок замыслу Набокова, который своим романом утверждает волю и власть автора в сотворенном им мире. Однако то, что кажется абсолютной свободой художника, Набоков осознает как зависимость искусства от жизни. Техника этой зависимости в романе иронически обнажена, она обыгрывается, пародируется и выступает на всеобщее обозрение.
По интерпретации «Отчаяния», предложенной С. Давыдовым, Герман - «лжедемиург», претендующий на роль творца. Претензии его несостоятельны - единственным творцом романного мира остается автор. Сконечная видит в тексте «Отчаяния» реминисценцию сологубовского «Мелкого беса» (Сконечная, 2001).
Метароман Набокова, действительно, незримыми нитями связан с творчеством Андрея Белого и других поэтов-символистов: Ф. Соллогуба, О.Мандельштама. Достаточно вспомнить, например, тот факт, что псевдоним писателя - Сирин (под которым он публиковал свои «русские» произведения) совпадает с названием альманаха, в котором первый раз увидел свет «Петербург» Белого, или отзыв Набокова о романе: «Петербург» - одно из четырех главных произведений ХХ века, роман-символ, особенно в этом русском варианте, роман, условно говоря, как бы «вертикального» поиска истины, т. е. метафизический. С другой стороны - индивидуалистический, ибо жаждущее истины «я» искало «вертикальную» истину», отвергая и обыденную мораль «мы» и предшествующую традицию, когда «я» тосковало по соединению с «мы» и, если не находило, было готово причислить себя к «лишним людям». Это высказывание возвращает нас к метароманной структуре набоковских текстов, порожденных проблемой соединения «Я» с мировым смыслом. Много общего можно увидеть и в стилистике текста. Ирония, самопародирование, которые отме- 21 чены нами в творчестве Набокова - необходимое начало в символистском искусстве. Принцип многократного наслоения реминисценций - цитат, аллюзий, подсказок, поэтика отражений и т. д. используются обоими писателями. Много совпадающей символики, представленной декорацией к искусству. Можно увидеть и общие темы, ключевые мотивы: например, тема возвращения (однако по- разному разворачиваемая обоими писателями), тема судьбы, рока, мотив безысходности, бесконечности, пустоты, мотив круга и стремление художников к его размыканию, реализуемое в модели спирали, мотив двойничества: Годунов- Чердынцев, представитель набоковского «я», должен пройти по кругам двойников - им же придуманных персонажей - и, согласно метафизической архитектонике романа, освободиться от них, обратив свой путь в спираль творческого совершенства. Нечто подобное - в пространстве «Петербурга», герою которого нужно в конце концов преодолеть плоскость зеркал - философа, нигилиста, декадента - и открыть перед собой мистическое измерение бесконечности. «Скептическое начало, пронизывающее «темный» роман Андрея Белого, метафизическая ирония, именно у Белого по сравнению с другими символистами зазвучавшая столь неоднозначно, философское зубоскальство, лирическое самоосмеяние, перевертыши и передразнивания - вот что роднит «Петербург» с набоковской прозой», - делает вывод О.Сконечная в статье «Черно-белый калейдоскоп» (Сконечная 1999, 692).
другие считают его прообразом Ф. М. Достоевского, начиная с его «Преступления и наказания» и заканчивая «Братьями Карамазовыми».
На наш взгляд, дело здесь даже не в степени влияния того или иного писателя на творчество Сирина, будь он русским классиком или представителем так называемой «новой» литературы, а, как высказался Г. Струве, «в необыкновенном даре переимчивости, которым обладает Набоков. Это одно из характернейших черт его литературной физиономии, и с этим связано его тонкое искусство пародии» (Струве 1997, 216). «Сложность набоковской прозы и состоит в том, что надо разобраться в намерениях автора, серьезных и несерьезных одновременно», - считает В. Ерофеев. (Ерофеев 1990, 6). Даже «наиболее ответственные места сюжета», по замечанию Ив. Толстого, «и те ироничны, каламбурны, полны игры с читателем и шутовской тени подражания - как пародия всегда сопутствует истинной поэзии» (Толстой 1995, 197). Вспоминается один случай из биографии писателя, связанный с Днем рождения отца, когда тот, ради праздничной шутки, надел яркие полковые регалии. Автор замечает, что шутка имела «рекапитулярный смысл»: «Первые существа, почуявшие течение времени, несомненно, были и первыми, умевшими улыбаться». Это качество Набоков переносит и на свои произведения.
Возьмем отдельные цитаты. В романе «Подвиг» есть фраза «...ваши земли, ваш... дом - всему этому следует сказать прощай», которая содержит намек на стихотворение Байрона: «Прощай! И если навсегда, то навсегда прощай .». «... Лежал навзничь .в горном ущелье...» - пародийный перифраз стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон»: «В полдневный жар в долине Дагестана.». «Вышучивание» вырастает у Набокова до мировоззренческих высот: он писатель, нашедший и рекомендующий другим средство покарать тирана: «Стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным, - и казнил его именно этим - страшным испытанным способом» («Истребление тиранов»). Это и в духе, и в стилистике Набокова. «Смех, собственно, и спас меня» («Истребление тиранов»)22.
Близость Набокову того искусства, где объективная логика событий заменяется субъективной логикой воспринимающего их сознания, особенно очевидна, когда он говорит о творчестве писателей - модернистов. С Ф.Кафкой, например, Набокова сближает отношение к действительности как к миру непредсказуемых случайностей, странных и чудовищных метаморфоз. Один из рассказов Набокова так и называется - «Случайность», герой его повести «Соглядатай» утверждает: «Закона никакого нет - зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж - все зыбко, все от случая».
Но самым заветным в своем творчестве - способностью воспринимать жизнь через призму воспоминаний, - Набоков обязан, конечно, Марселю Прусту. Вспомним «Машеньку», «Дар», «Другие берега». Писатель солидарен с Прустом не только в творческом методе, основанном на непосредственном впечатлении, обладающем способностью сохраняться в памяти и восстанавливать «давно ушедшее прошлое в его первозданной свежести», но и в понимании времени человеческой жизни как разрушительной стихии, «все уносящей в царство забвения». Пруст являлся для Набокова образцом и в восприятии искусства, где само произведение важно лишь постольку, поскольку способно вызвать неповторимое впечатление, возбудить активную работу чувств и сознания воспринимающего. «Художник, опираясь на индивидуальное восприятие и воображение, старается увидеть неповторимое, особенное, скрытое за внешней видимостью явлений. Именно в мире свободного творчества, - утверждает Набоков, - открывается подлинная связь вещей, а факты обнаруживают свою обманчивость и нелепость; лишь там становятся нереальными «реальные» силы разрушения, а вера в добрую природу человека - осязаемой правдой»23.
Образец подобного восприятия находим в «Подвиге»: «В науке исторической Мартыну нравилось то, что он явно мог вообразить... Он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных, озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть».
В отличие от рассказчика у Пруста, который во всем полагается на работу интуитивной памяти, ощущая одновременно, как «жизнь все больше умолкает вокруг», беспокойный набоковский герой-автор, не покидая реальности, стремится во всем, даваемом жизнью «сейчас», разглядеть «прообраз будущих воспоминаний», уловить сам ритм работы творческого воображения, интуицией проникнуть в суть интуиции. Это дало повод исследователям говорить о прозе Набокова как о своеобразном «творчестве в творчестве», когда изображается не столько жизнь героев, сколько осмысление ими своей жизни в форме художественного творчества, вариантом которого является память о прошлом.
Если герой у Пруста выражает восхищение творчеством художников- импрессионистов, с их умением видеть красоту в самых обыкновенных вещах, то герой романа «Дар» говорит о пристрастии к искусству, которое можно было бы назвать сюрреалистическим, усиливающим отдельные стороны явления в момент его восприятия. Таково, например, восприятие Годунова-Чердынцева картины некоего художника Романова «Футболист»: «Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря».
В восприятии литературы эта особенность проявляется как предельная свобода личных ассоциаций читателя. Произведение, оставаясь моментом его внутренней жизни, в то же время становится неким интеллектуальным заданием, поводом для собственного творчества. Герой Набокова не любит играть в шахматы, но охотно составляет шахматные задачи, в которых он добивается «крайней точности выражения», «крайней экономии гармонических сил». В окончательном варианте «все было осмыслено, и вместе с тем все было скрыто... Но может быть очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие предметных ходов. ложных путей, тщательно уготовленных для читателя». Иллюстрируемые моменты позволяют нам говорить об определенных чертах общности картины мира, создаваемой столь «несходными» между собой художниками.
«Литература, о которой мы говорим, живет простыми человеческими эмоциями. Другое дело, что воспроизвести в сознании читателя простую человеческую эмоцию можно только интеллектуальным путем. Настоящая литература, которую интересует подлинная эмоция, поэтому всегда сложна, требует внимания и работы. Таков и Набоков» (Пурин 1993, 37) Новая «интеллектуальная проза» (термин заимствован у В. И. Гусева) стала одной из доминант творчества писателя и получила воплощение в новаторских формах композиции и языковой изобразительности.
Лексические средства выражения межтекстовых ассоциативных связей охарактеризуем на примере сопоставления повести В. Набокова «Машенька» и романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В «Машеньке» молодой Сирин сни- женно «повторяет» схему «Онегина». Прежде всего, появляется набоковский герой, продолжающий линию «лишних», «странных» людей русской литературы (Онегин - Печорин - Рудин и т.д.). Набоков так же, как и его художники- предшественники, пользуется «сторонним» взглядом на своего героя, чтобы подчеркнуть его «особенность». Хозяйке русского пансиона Ганин «казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей». Герой и сам прекрасно знает о своей исключительности. Именно в «Машеньке» формируется фабульная структура, ищущая сюжетного разрешения, и основные силовые линии конфликта метароманного «я» с миром «других»: «призрачным», но очень вязким.
Вся внутренняя энергия повествования направлена на то, чтобы сформировать и укрепить у читателя возникающие ассоциации. Этому способствуют фрагменты текста, описывающие внутренний мир и образ жизни героя: в прошлом Г анин «был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству»; «Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, двигаться подобно парусу... В его теле постоянно играл огонь»; «В другое время Ганин был способен на всякие творческие подвиги, на всякий труд» и принимался за этот труд «жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь»; «умел играть силой своей воли».
На смену бурной деятельности со временем пришли безволие, безрадостность, безделие как следствие разочарованности жизнью, неспособности любить людей: не данную, конкретную женщину, а именно - людей как представителей рода человеческого - «смешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека». В результате на героя «нашло рассеянье воли» (как называет это состояние Ганин): «сердце билось тихо», «мысли ползли без связи», и он «не мог решить, что ему делать».
Ассоциативная связь имен собственных Ганин - Онегин усиливается: 1)за счет конкретных параллелей, например, описание выборочного дня Ганина: «Этот день его, как и предыдущие, прошли вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было... Он медленно пошатался по бледным улицам. долго смотрел в витрину пароходного общества. С час попивал кофе. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посредине придаточного предложения»; 2)за счет ключевых слов, передающих душевное состояние героя. Наиболее частотными из них являются слова «тоска», «скука», «мука». Эти три слова образно-этимологически восходят к греч. «pothos», слово, которым Платон определял состояние души человека, припоминающей о своей былой идеальной жизни: «состояние, похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть словно навсегда слипшиеся веки»; «Ничто не украшало его бесцветной тоски»; «Тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной»; «Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным»; «Ганину становилось скучно опять»; «Мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья»;3)за счет эпитетов (вялый, угрюмый, одинокий), слов категории состояния (холодно сказал, без любопытства спросил, бессильно продолжил, довольно равнодушно рассматривал, хмуро разглядывал, страшно жить, белье докучливо липло к телу), глагольных метафор (глаза задумчиво погасли, бездействие тяготило, душа притаилась).
К классическому русскому роману восходят и пересекающиеся оппозиции герой - героиня, герой - мир, причем героиня - носитель и хранитель нравственного начала (не случайно «очень пушкинское» имя Маша), и отражение в интимных переживаниях героев общественных коллизий, и традиционное «русское упование на женщину» в поисках «основ» и «почвы», и «поэтика помех», роковым образом мешающих соединиться бывшим влюбленным, в том числе классический «треугольник» (Онегин - Татьяна - генерал; Ганин - Машенька - Алферов), и подчеркнуто стилизованная усадебно-садовая обстановка, в которой протекает роман Машеньки и Г анина, рассказ Алферова о своей жене, момент узнавания возлюбленной (в сиринском романе «живую» возлюбленную пародийно подменяет фотография), письмо Машеньки и, наконец, момент «возрождения» героя, попытка вторично пережить изжитые воспоминания. Ганин, как и Онегин, предпринимает попытку вернуть прошлое, «обрести потерянный рай», но... в последний момент отказывается от нее, отказывается от рая, потому что «до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им, образ Машеньки остался. в доме теней [пансионе], который сам уже стал воспоминанием».
Ассоциациями и реминисценциями, связанными с «Евгением Онегиным», насыщены и другие произведения Сирина. В автобиографическом романе «Другие берега» Набоков использует эпиграф ко второй главе «Онегина»: «Она [Поленька] стояла, опершись о косяк. воплощая и rus и Русь.» В пьесе «Событие» есть ссылка на пушкинский роман: «Я ему с няней пошлю французскую записку». Последние строки романа «Дар» имеют вид онегинской строфы: «Прощай же, книга! Для видений - отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, - но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть. судьба сама еще звенит, - и для ума внимательного нет границы - там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, - и не кончается строка». Зачем понадобилось Набокову отсылка к пушкинскому роману? В ней, по замечанию Ю. Д. Апресяна, «ключи к разгадкам и «ослепительный разряд смысла».
Сравним со сценой окончательного прощания Онегина с Татьяной, вслед за которым Пушкин прощается и со своим читателем, и со своими героями: Блажен, кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала полного вина,
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Набоков тоже прощается со своими героями, со своей книгой, со своими читателями. Читатель «Дара», как и читатель «Онегина», волен перейти физическую границу романа и продлить его так, как он захочет - «строка не кончается».
«Новизна пушкинского романа и набоковской прозы не игровая (они не предлагают читателю новую игру, новые правила, новые «приемы»), а языковая, первично - естественная - в том смысле, что искусство и есть язык. Новое искусство - всего лишь сегодняшнее состояние его старого (т.е. вечного) языка», - отмечает А. Пурин (Пурин 1993, 47).
Категорически отрицая свою зависимость от других писателей (за исключением «печального, сумасбродного, мудрого, остроумного, волшебного и во всех отношениях восхитительного Пьера Делаленда», которого сам и выдумал), Набоков, однако, безоговорочно признает авторитет Пушкина, закономерность его влияния на творчество «хорошего писателя»: «Кровь Пушкина течет в жилах новой русской литературы с той же неизбежностью, с какой в английской кровь Шекспира». Этим и объясняется обилие «пушкинских» ассоциаций в произведениях Набокова. Перечитывание Пушкина помогает одному из его героев, писателю Г одунову-Чердынцеву, воссоздать атмосферу прошлого России. Вслушиваясь в «чистейший звук пушкинского камертона», в «прозрачный ритм» его прозы, он находит в них созвучие с жизнью русских ученых, «целомудренных натуралистов и путешественников, дающих название «недоназванному миру». В «пушкинском отблеске», лежащем на всех проявлениях культурной русской жизни прошлого века, он улавливает и что-то глубоко личное, сходное с прежней детской верой в присутствие в мире той «спокойной и ясной силы», которая связана для ребенка с образом отца. Книга Годунова- Чердынцева остается ненаписанной, но для Набокова важен сам процесс творчества как интеллектуальное преломление ностальгии по «утраченному раю» детства. Вместе с преданностью прошлому возрастает ирония по отношению к настоящему, где все давно названо и определено, где торжествует «здравый смысл», а художник, обреченный на одинокие «поиски словесных приключений», находит отраду лишь в том, что созвучно детским воспоминаниям.
Подведем некоторые итоги.
Более полное представление о поэтической картине мира В. Набокова дает возможность получить анализ межтекстовых (затекстовых) ассоциативных связей слов, отражающих интертекстуальный характер творческого мировиде- ния писателя.
Межтекстовые ассоциативные связи слов в творчестве В. Набокова проявляются в основном в различного рода аллюзиях, цитатах и реминисценциях.
2.3. Ассоциативное поле как элемент поэтической картины мира В. Набокова
Рассмотренные в предыдущих параграфах ассоциативные связи слов связаны с категорией «художественный образ» и, взаимодействуя между собой, формируют образно-ассоциативное поле; ингредиенты этого поля представляют репертуар выразительных средств, посредством которого реализуется экспрессивно-семантическое содержание тропа и шире - какой-то пласт образного смысла художественного текста. Цель настоящего параграфа - через анализ ключевых слов ассоциативных полей раскрыть концептуально значимые доминанты поэтической картины мира В. Набокова.
2.3.1. Концептуальные доминанты в ранней прозе В. Набокова
Началом творческой самореализации Владимира Набокова явились его первые рассказы. Они во многом определили параметры художественной системы писателя, заложили фундамент доминирующих в творчестве В.Набокова подходов к эстетическому освоению реальности.
В ранних рассказах Сирина начинают звучать основные мотивы его творчества, которые впоследствии займут доминирующее положение в его романах: это мотив отчужденности героя от социально-исторической эмпирики; мотив жизни и смерти; мотив судьбы, рока, фатума, подчиняющего и строящего жизнь человека вопреки его воли, и, наряду с этим, мотив обретения внутренней свободы через приобщение к дару. В центре внимания писателя оказываются человек, чье отчуждение от мира и трагическое одиночество осмысливаются как важнейшая проблема настоящего времени, трагедия личности, для которой «единственный способ соединения с любимым, близким, родным, - это идеальное, сублимированное соединение в сознании (в мечте, в памяти, во сне), между тем, как телесно, физически она обречена на соединение с постылым, чуждым, чужим» (Апресян 1995 [б], 17).
Важнейший психологический инвариант В. Набокова - принципиально неутолимая тоска по далекому близкому, по отторгнутому родному, в чем бы вещественно ни воплощался объект неутолимых желаний в каждом конкретном случае. Например, рассказ «Возвращение Чорба», с которого начинается сборник, представляет собой серию воспоминаний об умершей жене; в рассказе «Звонок» описывается долгожданная встреча с матерью после семи лет разлуки, но оказывается, что она желаема только для сына. Мать ждет любовника, сын воспринимается как помеха и выпроваживается. Оптимистические ноты звучат в рассказе «Картофельный эльф». К карлику, утратившему всякий интерес к жизни, приезжает его давняя любовница Нора и сообщает о рождении 7 лет назад сына, абсолютно нормального мальчика. «И мгновенно он понял все, весь смысл жизни». Его переполняют блаженство, изумление, счастье. Нора уходит, он догоняет ее. Но сердце не выдерживает - и он умирает, а Нора безучастно говорит: « Я ничего не знаю... У меня на днях умер сын...».
Подробнее рассмотрим рассказ Владимира Набокова «Рождество». Впервые этот рассказ был опубликован в январе 1925 г. в журнале «Руль» (Берлин), а в 1930 г. был включен в сборник «Возвращение Чорба». С одной стороны, это отдельный самостоятельный текст, с другой - элемент целого. Текст как элемент целого представляет собой значительный интерес для понимания особенностей идиостиля писателя, реализации языковой картины мира.
Анализируемый текст репрезентирует один из вариантов проигрывания темы смерти и отношений «жизнь - смерть».
Для того чтобы выявить особенности смысловой упорядоченности языкового материала в данном художественном тексте, отметим, что с композиционно- синтаксической точки зрения он состоит из двух частей, тесно взаимосвязанных друг с другом. Рассказ построен по принципу двойной антиномии: рождение Христа - смерть сына и смерть сына - рождение бабочки как символ жизни. В основе их смыслового сцепления - ассоциативная соотнесенность двух повествовательных планов (прошлого и настоящего). Событийная кульминация - смерть сына, случилась еще до начала повествования. То есть текст в данном случае - это шлейф событий, послесловие. План прошлого и формально доминирует в тексте, поскольку почти все глаголы употреблены в форме прошедшего времени (сел, опустил, отразилось, посмотрел, вышел, зашагал, вспомнил, снял, поехал, вернулся, хранились, скользнуло, собрал, выстрелила, свисали, вздувались и т.д.).
Название рассказа - «Рождество» - естественно нацеливает читателя на ожидание светлой рождественской истории. В словаре слово рождество
Употребленное в заголовке, оно повторяется лишь в конце рассказа (в прямом значении): «Завтра Рождество, - скороговоркой пронеслось у него [Слепцова] в голове». Однако данное слово можно назвать тематическим, так как у него прослеживаются лексические связи с рядом других слов, образующих с ним тематическую лексическую сетку. В тексте легко находятся слова и сочетания слов, вызывающие одинаковые с ним ассоциации: аршинная елка в глиняном горшке, крестообразная макушка, свеча, праздничек, Сочельник, зеленая. Все они раскрывают образ праздника, радости.
Потому таким неожиданным предстает начало рассказа, задающее совершенно иную тему и другое настроение: «Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастий...». Контрастирующая тематическая группа создает образ глубоко страдающего человека и вводит новую тему - тему одиночества. В составе этой тематической группы несколько раз повторяется слово горе и однокоренные с ним слова: горько, горестно, горький. Мотив горя, страдания передается и такими словами и фразами, как «простонал», «сурово затосковав», «уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы», «горбясь, всхлипывал всем корпусом», «Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке», «затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий», «пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез».
Чувства горя и страдания, которые испытывает человек, сливаются с чувствами страха и ужаса («земная жизнь, горестная до ужаса»), гнева на судьбу, суровой реакции («гневно столкнул», «сурово затосковав», «строго, исподлобья оглядел»), отрешенности от мира, потому что с каждым мгновением происходит постепенное «умирание» героя из-за невозможности вынести происходящее («спросил рассеянно», «думая о своем», «проглотил что-то»).
Результат воздействия душевных переживаний передан через глагольные лексемы: уронив, затрясся, прижимая, цепляясь, всхлипывая, затряс, простонал, пошатываясь. Употребляясь со словами ТГ «тело» - голова, губы, щека, руки, корпус (туловище человека), зубы, лицо, ухо, пальцы, кожа, колено, усы, «седой еж» (волосы), ноги, глаза, борода, лоб, - которые организуют лексикосемантическое поле «человек», вступая в семантические связи со словами других тематических групп, они помогают раскрыть основные смысловые вехи рассказа.
это слово стоит на первом месте, однако оно не вынесено в заглавие. Слепцову сочувствуют окружающие предметы, таким образом концептуально значимым становится ассоциативное поле с доминантой «дом». В него входят слова и словосочетания: дом, деревянное строеньице, изба, флигель, гостиная, галерея, сени, половица, лавка, стекло, подоконник, дверь, крыша, стены, ставни, печка, мебель в саванах, кресла в чехлах, шкап с выдвижными ящиками вроде конторского; перифрастические наименования: шелковая клетка - абажур; незвенящий мешок - люстра; холодное пыльное дерево - стол.
Следующий рассматриваемый нами предметно- тематический ряд, передающий мотивы «человек - природа» и «человек - окружающая среда», носит в основном описательный характер. Он включает в себя выражения: «блистательный мороз», «толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой», «за мягким серебряным туманом деревьев», «сквозь стеклянные перья мороза густо синел ранний вечер», «сугробы плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице», «деревья отбрасывали черную тень на сугробы», «елки поджимали зеленые лапы», «серебряной голубизной лоснились колеи», «горели вырезанные льды».
Герой пытается найти успокоение в религии, которая передана в рассказе через тематический ряд слов с доминантой «церковь»: сельская церковь, церковный крест, купола, склеп. Набоков уравнивает природу и церковь, и к концу рассказа становится понятным, что природа для автора и есть религия.
Особенно значимым в тексте рассказа становится предметнотематический ряд, занимающий «периферийное положение в обыденном лексиконе среднего носителя языка»: он возвращает нас к биографии Сирина, а также отражает особенности его лексикона, в котором воплотились фрагменты тезаурусов ученого-энтомолога и писателя. Речь идет о тематической группе слов, семантику которых можно обозначить как «особый мир бабочек.
С описания бабочек начинаются воспоминания главного героя. Прошлое неожиданно предстает перед глазами Слепцова в самых разнообразных и ярких красках, реальный мир и мир воспоминаний переплетаются, по-набоковски жадная до деталей память воскрешает этот мир до мельчайших подробностей: «При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли - нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносит латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением».
бахромки», «веерные жилы», «громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд», «простертые крылья», «медленно и чудесно росло», «стало крылатым, вырвалось», «разворачивались, крепли», «продолжали расти, расправляться», «развернулись до предела, положенного им Богом, вздохнули». Образ бабочки как зарождение жизни обусловливает своеобразие смыслового объединения слов и является основной отправной точкой анализа лексико-семантического уровня рассматриваемого нами текста. На поверхностном уровне этот момент не ощущается, то есть рассказ как бы совсем о другом, однако характер глубинных импликатов заставляет нас задуматься над значимостью тех или иных элементов, сфокусировать свое внимание на наиболее важных сегментах текста, вернуться к заголовку. Слово «рождество» приобретает контекстуальное приращение смысла: рождество - чудо рождения. Образ бабочки становится носителем идеи жизни. Экспрессивность этого образа очевидна. Через него возвращается не только заданная в заголовке тематика, но и оптимистическое настроение, создается круг возможных образных обобщений.
Предметно-тематические ряды слов, взаимодействуя между собой, подготавливают образно-смысловую базу для возникновения подтекстовых ассоциативных связей, которые, в свою очередь, начинают влиять на окончательное осмысление различных словесных зон текста, т.е. эстетическое содержание в итоге реализуется не отдельными элементами или художественными фрагментами текста, а всеми элементами текста в их единстве и взаимосвязи.
Образно-смысловой скрепой различных семантических групп текста являются также стилистические приемы. «Рассматривая различные приемы группировки словесных тем (семантических групп), - писал В. М. Жирмунский, - мы наблюдаем явления повторения, параллелизма, контраста, сравнения, различные приемы развертывания метафоры и т.п.» (Жирмунский 1977, 30).
Отметим, что стилистический прием не замещает слово, а наоборот, вскрывает его семантические характеристики, «высвечивая» одни и «оттеняя» другие.
В структуре художественного текста стилистические приемы выполняют интегрирующую функцию, устанавливая между словами такие семантические связи, которые объединяют разные художественные фрагменты текста по принципу сходства или контраста, способствуют сближению отдаленных друг от друга временных планов, а также форм повествования - речи автора и речи персонажей.
В целом ситуация, заданная в рассказе, может быть охарактеризована как ситуация вынужденного нахождения человека, мертвого душой, в реальном мире. Образно-ассоциативное сопоставление обеспечивает своеобразие семантической компоновки слов и выражений, ориентированных на реализацию темы жизни и смерти.
Смерть сына - событие, предшествующее повествованию. К нему относят нас немногочисленные лексические единицы. Это слова некрологической семантики: смерть, умер, мертвый, нежилой; слова, связанные с погребальной обрядовостью: гроб, склеп, ограда (могильная), погост, крест, саван; единицы, обладающие с ядерной лексемой общим идиостилистическим значением и способные к взаимозамещению в данном контексте: холод, мороз, снег, зима, сон.
Данное семантическое поле в рамках функционального тезауруса имеет и свою периферию. Ее организуют в основном лексемы, раскрывающие мотивы сумерек («по вечереющим снегам», «густо синел ранний вечер», «вечером, сурово затосковав», «желтым светом», «в темно - синем стекле», «в синеватых розах стены», «при тусклом свете лампы»); тишины («Иван, тихий, тучный слуга», «беззвучно опустил», «мягко скрипнув дверью», «незвенящий мешок»), разъятости («в наклоненном зеркале отразилось его [слуги] освещенное ухо и седой еж», «скользнуло большое, бородатое лицо [Слепцова]», и не он сам, а лишь «громадная тень, медленно вытягивая руку, проплывает по стене, по серым квадратам занавешенных окон»).
«Незачем было будить, согревать словно в приемной у доктора»; «Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел»; «Приехав, он у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун»; «Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своемзабыл?»; «Завтра Рождество, - скороговоркой пронеслось у него в голове. - А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...»; «...Смерть, - Слепцов, как бы кончая длинное предложение».
Ассоциативно-смысловое развертывание текста осуществляется по мере формирования лексических оппозиций: «смерть - жизнь», «холод - тепло», «зима - лето», «ночь - утро», «слепота - свет», «мороз - огонь», «горе - счастье», «невозможность чуда в жизни - рождение как высшее из чудес». Например, слова и выражения, относящиеся к описанию утра в рассказе, употребленные как в прямом, так и в переносном значении (индивидуально-авторские неологизмы, метафоры, перифрастические наименования): «Весело выстрелила под ногой половица», дверь «сладко хряснула», «в лицо ударил блистательный мороз», «дальше сиял высокий парк», «зашагал в слепительную глубь», «пробрался между стволов удивительно светлых деревьев», «на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды», «за легким серебряным туманом ... слепо сиял церковный крест» и т.д. - символизируют радость, покой и умиротворение в природе, в мире: сияющем, сверкающем, огненном. Яркие зрительные ассоциации противостоят слепоте героя, заставляя его чувствовать помимо собственной воли: «Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан. И что на склоне сугроба - песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст». Все они неоднократно эксплицируются в тексте, постоянно взаимодействуя между собой, раскрывают художественную идею произведения: способность человека в трагический момент увидеть жизнь глазами художника.
Для создания образов, имеющих символическое значение, В. Набоков часто использует цветообозначения. Наиболее частотными из них являются следующие: белый, черный, серебряный, синий. Широкий диапозон текстовых ассоциаций данных прилагательных выявляет различные смысловые оттенки их содержания. Мы уже иллюстрировали роль прилагательного серебряный в организации мотива света, синий цвет ассоциируется с сумерками как временем суток и мрачным настроением героя, за счет прилагательных черный - белый создается цветовой контраст. Но этим роль цветообозначений не исчерпывается. Они, являясь вторичными по отношению к денотативной семантике, формируют устойчивые ассоциативные связи, характерные для дискурса В. Набокова, несут важную содержательную и смысловую информацию.
но и приобретает иное символическое значение в некоторых описательных фрагментах текста: непорочности, чистоты, возвышенности, святости («белокаменный склеп», «белые купола клумб», «белая гладь» - застывшая вода, «белые веера» - облака).
Особенно значимым в концептуальном плане является заключительный аккорд рассказа. Этот отрывок мы приведем полностью:
«И в то же мгновение щелкнуло что-то - тонкий звук - как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья - еще слабые, еще влажные - все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, - и на стене уже была - вместо комочка, вместо черной мыши, - громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.
И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья». Бабочка еще в древности являлась символом бессмертия25. Причем жизнь ассоциировалась с яркой гусеницей, а смерть - с темной куколкой. В анализируемом отрывке «черное существо» чудесно превращается в ночную бабочку с «простертыми», «темно-бархатными» крыльями «с четырьмя слюдяными оконцами». Бабочка в поэтическом мире Набокова становится воплощением призрачности и несостоятельности смерти.
к воспоминаниям Слепцова о минувшем лете, когда его сын был еще жив. По- набоковски жадная до деталей память воскрешает это время в мельчайших нюансах: «По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца шляпы, рука теребит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях».
Таким образом, мы можем утверждать, что глубинный смысл текста организует ассоциативно-смысловое поле «Бабочки». Одновременно в раскрытии имплицитного, «эзотерического» (термин А. А. Богатырева) смысла участвует и прием аллюзии, на который падает большая информативная и смысловая нагрузка. Эти аллюзии - отсылки к биографии самого Сирина (Слепцов наделен набоковскими чертами, через переживания героя передаются личные переживания Набокова, все им видимое и слышимое), отношениям «отец-сын», эстетической и философской позиции писателя, связанной прежде всего с эстетическим запечатлением самой действительности: конструирование «нового» мира, обладающего эстетической ценностью, созданного по воле автора, открывает свободу творчества, свободу воображения; эстетическая реальность, ожившая под пером художника, обретает для Набокова высший смысл; творческое видение оказывается созидающей силой. Ключевое противопоставление «смерть - жизнь» из плана конкретного (повествовательно - описательного) переводится в план философский, связанный с проблемой взаимодействия человека и природы, единения человека с миром природы, в котором можно приобрести желанную гармонию, успокоение, счастье; и в план эстетический, провозглашающий основные эстетические постулаты Набокова: жизнь - конечна, духовное бытие - бесконечно, мир творчества отделим от мира реального «так же, как жизнь отделима от смерти» (В. Ходасевич); преодолеть смерть можно лишь силой творческого дара.
Слово «Рождество», вынесенное в заголовок рассказа, выступает в качестве основной образно-смысловой скрепы всех его частей, углубляет ассоциативные подтекстовые связи по мере внимательного рассмотрения остальных лексико-семантических единиц текста. Это, как справедливо заметил Ю. М. Лотман, связано с тем, что «художественная конструкция строится как протяженная в пространстве - она требует постоянного возврата, казалось бы, к уже выполнившему информационную роль тексту, сопоставления его с дальнейшим текстом. В процессе такого сопоставления и старый текст раскрывается по- новому, выявляя скрытое прежде семантическое содержание» (Лотман 1972, 39). Первоначально слово рождество реализует общеязыковое (денотативное) значение (рождество - праздник в память рождения Иисуса Христа): «Завтра Рождество». Затем мы наблюдаем процесс рождения бабочки зимой из обреченного, забытого сыном на даче кокона. Рождение бабочки приводит к рождению творческого дара, а значит и к полному духовному возрождению героя.
с важнейшими категориями поэтического мира Набокова, но и пронаблюдать на примере этой лексемы нетривиальный процесс превращения в символ существительного с абстрактной, а не конкретной семантикой.
Тема творчества, рождения творческого дара, выявлена нами через смысловой код, связанный с мотивом смерти. Способность человека в трагический момент увидеть жизнь глазами художника - один из постулатов эстетики Набокова.
Художественное произведение нельзя объяснить. Можно попытаться объяснить не само произведение, а что-то внутри него. И можно попытаться что-то понять в его авторе. Тем более, когда мы имеем дело с Набоковым - «великим стилистом» и «мастером замечательных замысловатых шарад». Один из рассказов В. Набокова назван «Круг». На первый взгляд кажется, что название лишь отражает композицию рассказа, который открывается оборотом «во- вторых», а заключается оборотом «во-первых». Однако, слово «круг», вынесенное в заголовок, обнажает ассоциативные подтекстовые связи, которые углубляются по мере внимательного рассмотрения каждого из абзацев рассказа, где появляется - явно или неявно - образ круга. В первом абзаце - это «молочное облако черемухи среди хвой». Ощущение замкнутого мира, круга, усиливается с каждым абзацем, с каждой строкой. Отчетливее становится и название рассказа. Отметим одну деталь: повествование начинается в третьем лице, но в него врывается мысленная речь героя как бы от первого лица: «До какой глубины спускаешься, Боже мой! - в хрустально-расплывчатом тумане, точно все это происходило под водой. Иннокентий видел себя почти младенцем...»
даже с каким- то залихватским хрустом, рвал крючок из маленького, круглого, беззубого рта рыбы». «Особенно же бывало хорошо в теплую, пасмурную погоду, когда шел незримый в воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых там и сям появлялся другого происхождения круг,
Прошлое словно бы под водой, весь рассказ - круги на воде памяти. «Илья Ильич испытывал в его [сына] присутствии странную неловкость, - особенно потому, что полагал, с ужасом и умилением, что сын, как и он сам в юности, живет всей душою в чистом мире нелегального». Это еще один круг; все многомернее становится его образ: в природе - круги от дождя, в жизни - сын как отец. Фотография покойной жены - «с прелестным овальным лицом (овальность лица в те годы совпадала с понятием женской красоты). Овал выступает как образ совершенства.
Столь настойчивое повторение лексемы «круг» рождает, на наш взгляд, более обобщенное представление и более обобщенное чувство. Вся жизнь - неизбежный круг. Герой в замкнутом круге своего восприятия мира. В тексте мотив круга репрезентируется как через прямые номинативные значения различных частей речи, так и через метафорические словосочетания, в которых отчетливо выступает окказиональный, образно-ассоциативный смысл. Например: « он шел в лес». По утрам - т.е. изо дня в день, из утра в утро, по кругу. «Иннокентий молча шел рядом, вращая ртом». Вращать - «заставлять двигаться по окружности». «Вращаясь
«После долгого, вольного дня спалось превосходно; случалось, однако, что иная греза принимала особый оборот, - сила ощущения как бы выносила его из круга сна, - и некоторое время он оставался лежать, как проснулся, боясь из брезгливости двинуться». «А здесь как бы соединялись кольцами
Во многих описательных фрагментах текста лексема «круг» присутствует имплицитно: «Жарким днем в середине июня по сторонам дороги размашисто двигались косари, - то к правой, то к левой ключице прилипала рубаха» - полукруг косы.
«Годунов-Чердынцев... поставив ногу на скамью, играл с фокстерьером, заставлял его прыгать - собака не только очень высоко, стараясь хапнуть мокрый мячик, но даже ухитрялась, вися в воздухе, еще с добавочной судорогой всего тела». Сквозь описание данной картины отчетливо видятся полукруговые движения собаки.
Тесную взаимосвязь между компонентами концептуальной метафоры «жизнь - круг» позволяют обнаружить и излюбленные стилистические приемы Набокова. Самым частотным из них оказывается повтор, возвращение к уже названной детали (любое «опять» - это возврат, круг). «Отец движется на цыпочках, держа перед собой скрипучий пук мокрых ландышей» - в начале рассказа и еще раз: «Бог помощь» - сказал Илья Ильич, проходя; он был в парадной панаме, нес ».
Ассоциативное поле «круг» в несколько трансформированном виде передается через преломление, отражение одного образа в другом. Три раза в тексте появляется «мяч». Фокстерьер прыгает, «стараясь хапнуть мокрый мячик». Таня подбрасывает «на ладони мячик»; предлагает герою - «хотите с нами пойти», «глядя на него без улыбки и держа в руке мяч».
В одном абзаце В. Набоков «пролистывает» двадцать лет жизни героя: «И потом была война с немцами, и вообще все как-то - но постепенно стянулось снова, и он уже был ассистентом профессора Бэра» (расползлось... стянулось снова, т.е. прошло в замкнутом кругу).
С появлением Тани герой как бы пытается вырваться из круга. «В первый раз, кажется, он их увидел с холма: на дороге, холм огибающей, появилась кавалькада, - впереди Таня, по-мужски верхом на высокой, ярко-гнедой лошади, рядом с ней Годунов-Чердынцев, неприметный господин на низкорослом, мышастом иноходце; за ними - англичанин в галифе, еще кто-то; сзади - Танин брат, мальчик лет тринадцати, который вдруг пришпорил коня, перегнал всех и карьером пронесся в гору, работая локтями, как жокей». Однако уже следующий абзац возвращает предыдущую сцену в круг прошедшей жизни: «После этого были еще другие случайные встречи, а потом. Ну-с, пожалуйста: жарким днем в середине июня».
допущен, «пребывая на ее земной периферии, участвуя в летних забавах, но никогда не попадая в самый дом. Это бесило его».
После двадцати лет Набоков снова сводит героя с семейством Годуновых-Чердынцевых. Конец рассказа, чтобы не пройти мимо его разгадки, можно только цитировать: «Вдруг Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накопляются сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, - и вот кто-то проезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет». Пространство круга расширяется до неизвестных масштабов, жизнь ассоциируется с книгой, а значит - и с творческим началом. В тексте это подчеркивается развернутой метафорой. Герой осознает, что его жизнь прошла по кругу, которым он сам себя огородил, и пропустил то важное, что готово было проникнуть в его жизнь, «разорвать круг», - и оно прошло мимо. Опять пробудилась прежняя любовь, но любимая женщина снова вне его круга - остался лишь круг воспоминаний, который может оживить «подробная» память героя; «Он встал, простился, его не очень задерживали. Странно держали ноги. Вот какая потрясающая встреча. Перейдя через площадь, он вошел в кафе, заказал напиток, привстал, чтобы вынуть из-под себя свою же «задавленную шляпу» (герой уже настолько «внутри» своего переживания, что не видит своих поступков). «Какое ужасное на душе беспокойство... А было ему беспокойно по нескольким причинам. Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной. Такой же неуязвимой, как и некогда». Все эти рассуждения понадобились нам для того, чтобы подчеркнуть важную, на наш взгляд, мысль; интерпретация прозы В. Набокова очень сложна, но многое «подсказывает» нам сам текст - нужно лишь увидеть эти «подсказки» и понять, что все в нем причудливо переплетено и тесно взаимосвязано, поэтому «механическое» вычленение любого фрагмента может привести к неадекватной или слишком поверхностной трактовке.
Проанализировав поэтапно одно из произведений В. Набокова, мы попытались выявить его сложный многоуровневый идейно-художественный смысл, который открывает важнейшие метафизические понятия философии писателя не только в жизни, но и в искусстве: « Спираль - одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным ... гегелевская триада в сущности выражает всего лишь природную спи- ральность вещей по отношению ко времени» («Другие берега»). Однако, он дается так, что не всякий читатель способен «разомкнуть круг набоковской прозы», а лишь тот, кто осуществит сложную деятельность «по распредмечиванию» языковых средств, «перевыражающих в себе авторскую программу смыслопостроения» (Богатырев 1998, 58).
- не только любимые геометрические фигуры Сирина. Образ круга находит воплощение в набоковской художественной системе.
Круг в традиционной символике издавна считался символом полноты, законченности. В набоковской эстетике образ круга появляется как ощущение замкнутости мира. Во многих его произведениях используется прием «замыкания» (отметим, что мы говорим о приеме, который, вслед за В.Ходасевичем, определяется Набоковым как миропонимание), схема кольца, иногда размыкающегося в бесконечность. Например, сцена в самом начале романа «Дар»: фиктивный литературный критик обсуждает книгу стихов Годунова- Чердынцева. Выясняется, что она открывается стихами «О потерянном мяче», а завершается стихами «О мяче найденном». Отметим, что прием замыкания не единожды встречается в романе. Он организует его художественную структуру. В третьей главе, обсуждая с Зиной замысел книги о Чернышевском, Федор говорит, что она будет написана по кругу: конец совпадает с началом. Действительно, книга начинается не с рождения героя, как полагается жанру биографии, а с его детских и отроческих лет. Вслед за описанием его смерти в конце происходит ненавязчивый возврат к рождению героя - еще одно замыкание. Биография Чернышевского начинается с изящно стилизованного под Х ІХ век шестистишия, которое почему-то названо сонетом. Что это? В конце книги помещено начало сонета, а в начале - его конец - получается еще одно кольцо. При этом раскованность кольца не только внешняя. Начало сонета нарочито корявое, а его конец поэтичен. Граница между тем и другим обозначена совершенно четко - это последняя строка второго катрена: «Одной воздушною и замкнутой чертой» - отмечена несомненным изяществом и воспринимается как нечто чужеродное на фоне предшествующих строк. В ней еще раз проведена излюбленная у Набокова тема замыкания.
«Отчаяние» заканчивается датой «1 апреля», записанной в дневнике Германа. Ею же начинается роман «Дар». Важнейшая черта этой круговой детали - создать измерение «нереальности».
Разновидностью приема замыкания является инверсия, использованная В.Набоковым в книге о Н. В. Гоголе: книга начинается со смерти Гоголя и кончается его рождением, возвращающим читателя к началу рассказа. Размыкание круга происходит в вечности.
Вспомним, что Набоков настойчиво и категорично освобождает творчество писателя от какой бы то ни было идейной нагрузки, и главный критерий оценки произведения для него - эстетический. Имманентная замкнутость художника в своей «башне творчества» обретает значение естественной сосредоточенности на творческом процессе. Образ кольца, круга, «шара с цветной спиралью внутри» - метафора творчества, творческой ситуации. Набоков не предполагает полной изоляции художника от жизни. Для него чрезвычайно существенно «извлечь сокровища наблюдений». Перед нами особый художественный мир, преображенная творцом действительность, иначе, художественная реальность («четвертое измерение», по В. Ходасевичу). В этом пространстве конкретное время оборачивается временем, творимым писателем. И проявляется это в устойчивых приемах, свойственных только Набокову темах, немаловажной из которых, организующей практически все произведения писателя, является тема замыкания, связанная с семантическим полем «круг».
организующие индивидуальную картину мира писателя. Это слова с абстрактной и конкретной семантикой, которые, как правило, в каждом отдельно взятом тексте получают новое смысловое наполнение, тем самым придавая символическую выразительность «индивидуальной семиотике» Набокова. Установление тематических и ассоциативных связей между рассматриваемыми стержневыми категориями служит не только важным моментом в описании художественной картины мира автора, но также помогает определить концептуальные доминанты его индивидуального стиля, раскрывает особенности философии и творчества писателя.
2.3.2. Ассоциативное поле с доминантой «игра»
и его лексическое выражение
Интерпретация набоковских текстов как игровых уже имеет в литературоведении свою традицию. Хорошо известны некоторые работы по анализу игровых аспектов в отдельных произведениях, однако изучение игры в произведениях писателя с точки зрения структуры языка, ассоциативных способностей личности, их функций в творчестве В. Набокова, места в индивидуальной поэтической картине мира представляет несомненный интерес. Сложный мотив «жизнь - игра» проходит через всю художественную систему Набокова, проявляется в разных романах и рассказах, разных главах и эпизодах, многогранно «обыгрывается» по отношению к каждому персонажу, каждому моменту действительности, обнаруживает себя в совершенно далеких, на первый взгляд, художественных фрагментах и текстах. Марк Лиллу охарактеризовал творчество Набокова- Сирина как «серию вариантов темы игры, даже если ему присуще и многое другое». Назвав самого писателя Homo Lydens (Человек играющий), он замечает, что «Набоков отвлекает внимание читателей от банальных обстоятельств внешнего мира и направляет его внутрь, к волшебной выдумке, которая и является романом. Реальность исключается, счастливо сохраняется добрый юмор привидений, без которых невозможна ни одна игра» (Лиллу 1970, 97). Проиллюстрируем данное положение конкретными цитатами из набоковских текстов. В романе «Приглашение на казнь» «чуть-чуть бутафорские декорациями, оставшимися от каких-то других, доигранных жизней», а ландшафт Та- маринских садов напоминал «не столько террариум или сколько тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр». «Представление назначено на послезавтра ... на площади. Талоны циркового абонемента действительны. Руководитель казино - в зачитывает программу казни Цинцинната м. Пьер. Как о маскараде, рассуждает автор о жизни своих предков в романе «Другие берега»: «Другая моя прабабка была причастна менее трагическому маскараду». репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого и требует Короткий спектакль напоминают встречи героев рассказа «Весна в Фи- альте»: «Мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но, делая вид, что это только начало; так у нас водилось всегда: после обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств, но капельдинеры никто не впускался». Над всем этим «царит веселящийся и играющий дух самого художника», который «в качестве композитора и главного дирижера выпускает на сцену тех или иных солистов-героев и рассказчика, оставляя за ними немного свободы действия». В романе «Дар» Набоков пишет: «Одновременно ему [автору] приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игралища».
«Экспрессивная лучистость» (А. Н. Кожин) ядерной метафоры как бы отражается и в тщательной художественной обрисовке отдельных деталей игрового полотна: директор тюрьмы («Приглашение на казнь») именуется мажордомом, суженым, адвокат - «сторонник классической декапитации» - выигрывает против » - прокурора, сама казнь называется бенефисом, камера - ложей, дают представление наряженный заключенными палач и паук, «меньшой в цирковой семье», проделывающий «маленький трюк
Заметим, что образная ассоциация «жизнь - игра» в произведениях писателя взаимообратима. Так, для одного из героев Набокова (роман «Защита Лужина») только шахматная игра является подлинной жизнью, «все в ней слушается его воли и покорно его замыслам». В игре он видит «единственную гармонию». Все остальное - «туман, неизвестность, небытие». Произведение построено по законам шахматной партии, основные персонажи соотнесены с шахматными фигурами, пейзажи и интерьеры вызывают ассоциации с чередованием черных и белых квадратов на шахматной доске, Например, увидев по окончании одной из партий невесту, Лужин испытывает «острое счастие», но «... шахматы не сразу исчезли, и, даже когда появилась светлая столовая и огромный медью сверкающий самовар, сквозь белую скатерть проступали смутные ровные квадраты, и такие же квадраты, шоколадные и кремовые, несомненно были на пироге». Или: «Лужин, с тех пор как стали приходить гости, появлявшиеся теперь каждый вечер в различных комбинациях, ни на минуту не мог остаться один с невестой, и борьба с ними, стремление проникнуть через их гущу к невесте немедленно приобретало шахматный оттенок».
Характер развития ключевого мотива «жизнь - игра» соответствует логической связке «если А, то В»: Если жизнь - игра, спектакль, то люди в ней - актеры, манекены, заводные механизмы). Цинциннат говорит Марфиньке: «Мы окружены куклами. и ты кукла сама».
В качестве сквозных, образных актуализаторов используются слова и сочетания слов, подчеркивающие бездуховность, «нечеловечность» героев в нравственно несовершенном мире. Например: «глазированные глаза», «грозная фарфоровая улыбка», «полосатая фигурка» м. Пьера («Приглашение на казнь»). Глазированный - покрытый глазурью, такое покрытие используется для керамический изделий, фигурок, статуэток. Глаза - как известно, зеркало души. Окказиональное сочетание подчеркивает ее отсутствие, «бездушие» набоковского персонажа. Звуковая ассоциация (глаз... глаз...) усиливает признак. Фарфоровый - выполненный из фарфора (разновидность керамики), фарфор также часто используют для изготовления игрушек (фарфоровая кукла). Грозный - 2) заключающий, выражающий угрозу (грозный взгляд). В контексте - застывший в грозном выражении. образа персонажа, во-вторых - возникает пародийный эффект, насмешка, и, наконец, имплицитно уточняется мотив «жизнь - игра» - прокурор, как плохой актер, застыл с выражением неудавшейся улыбки; фигурка: 2)маленькая вещичка законченной формы различного назначения; миниатюрная скульптурка из дерева, глины, камня, керамики. В результате мы получаем портрет бездушного, с отталкивающей внешностью человечка, фарфоровой куклы. Вхождение в один ассоциативный ряд слов с противоположной семантикой (грозный во 2 знач. - улыбка; грозный в знач. величественный (высок.) - фигурка) усиливает пародийный эффект. Или: «Он чувствовал, как бессмысленная нежность заставляет его прижиматься к пурпурной резине ее [Людмилы] губ» («Машенька»). Данная двухсловная адъективная метафора полифункциональна. Резина - «эластичный материал, получаемый путем вулканизации каучука». В узком семантическом контексте актуализируется сема «искусственный». В контексте образа героини через сравнение с неживым предметом актуализируется сема «бездуховность» («бездушие»). Интересно в этой связи рассмотреть и роль символики в процессе метафоризации образа. В общем художественном контексте «кукла» является символом пошлости, глупости, безликости и бездушия. В данном примере этот смысл подкреплен символом «пурпурный»: цвета фиолетовой гаммы в символике культуры связаны «с переходом от активного к пассивному», «от жизни к смерти». Лексема «пурпурный» в описании внешности набоковской героини символизирует, с одной стороны, ее «духовное омертвение», с другой стороны, отражает такие качества, как вульгарность, лживость. Таким образом, данная метафора участвует в формировании ассоциативно- смысловой оппозиции «живое - неживое».
Сочетаниями такого рода изобилуют набоковские тексты. Среди них метафорические эпитеты: «праздничные, припомаженные» служащие тюрьмы, «ватой обложенный корпус» Радрига Ивановича, «вращавшийся» палач, «продолговатые, чудно отшлифованные слезы» и «кукольный румянец» Марфиньки («Приглашение на казнь»); «зажатый, скрученный» Василий Иванович («Облако, озеро, башня»); сравнения: « Он [Галатов] машинально пошел дальше, а потом тихонько споткнулся и стал, точно кончился завод» («Уста к устам»); «[Романовский] в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что выгнув, и когда встал, раскрутился как спираль» («Королек»), «...как поршни, ходили на месте их мелкие, мягкие ноги» («Приглашение на казнь»); глагольные метафоры: «Что-то в налаженной жизни братьев заскочило» («Королек»); «Его [адвоката] крашеное лицо не выражало особого движения мысли»; «Марфинька кричала, покачиваясь в лад с шагом носильщиков»; «М. Пьер и директор, двигая только зрачками, осматривали общество» («Приглашение на казнь»).
Реальный мир, бесцветный, прозрачный, сквозной населен актерами- призраками, привидениями, убогими и прозрачными: «Туземцы эти были как («Другие берега»), «Я заметил в его [англичанина] прозрачных глазах.упрямое вожделение» («Весна в Фиальте»), Цинциннат («Приглашение на казнь»): «Я окружен какими-то убогими призраками, среди плотных на ощупь привидений... я покоряюсь вам - призраки, оборотни, пародии». В этом мире даже мать - «обман», «ловкая пародия на мать».
ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков» («Весна в Фиальте»); «карандаш - указательного перста», «зеркальный шкап со своим личным отражением», «невеселый, «озябшие предметы», «недоброжелательный шкап» («Дар»), ветер» («Другие берега»), «трубный рев простуженных таксомоторов» («Звонок») - в основе переносных значений - приемы метафори- зации, перифразирования, олицетворения, градации.
Окказиональная синтагматика часто мотивируется текстовой парадигматикой, в результате чего создается сильный эстетический эффект: «Антон Петрович нашел на углу сонный таксомотор, который, как дух, понес его через пустыни светающего города и уснул у его двери» («Подлец»). Олицетворение «сонный таксомотор» мотивируется предикатом «уснул» и «подкрепляется» сравнением: «... как дух, понес его через пустыни...».
прошлого, уже забываю соотношения и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание» (жить в памяти + здравствовать в памяти - контаминат образован по образцу фразеологического скрещивания, но с нехарактерным для этого вида контаминации соединением конечных элементов исходных единиц).
Итак, тропеическая ориентация лексико-семантических единиц, ассоциативно сопряженных с одним из компонентов парадигматического ряда « спектакль - маскарад - цирк - представление», способствует развитию в произведениях Набокова эффекта двоемирия. Текстовые образные парадигмы, связанные одним денотатом - люди, можно представить следующим образом:
Куклы, марионетки
Механизмы
ЛЮДИ
Призраки
Семантические отношения между элементами такой парадигмы могут быть уподоблены отношениям между словами, входящими в один синонимический ряд с общей ассоциативной семой «неодушевленность, подобие».
На этом фоне разворачивается трагедия человека, набоковского героя. В романе «Король, дама, валет» терпит крах план героини убить мужа, чтобы навсегда соединиться с любовником (Набоков 2001). В «Подвиге» подчеркивается обреченность Мартына, абсолютная бесперспективность его героической попытки попасть на родину. Г ерой повести «Машенька» отказывается от встречи с любовью своей юности, потому что он «до конца исчерпал воспоминания». Однако все они наделены индивидуальными, живыми чертами, «тайной», «непрозрачностью». «Непрозрачный» герой не может совладать с прозрачным миром, становится его физической жертвой, но сохраняет «неделимость» своего «я» во враждебном ему мире.
Ассоциативно-смысловое поле «игра» становится ключевым, определяющим поведение героя. Сквозь призму игры автор видит человека и окружающую его реальность, чему способствуют семантические корреляты: «игра - человек», «игра - время», «игра - пространство», «игра - жизнь» и т.п. Это, в свою очередь, позволяет говорить об «игровой природе» творческого мировидения Владимира Набокова.
Интересна соотнесенность «игры» одновременно с двумя взаимоисключающими друг друга полями, какими являются «жизнь» и «смерть». Ганину, герою ранней повести Сирина «Машенька», жизнь представляется съемкой, «во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине участвует». И «чужой город» кажется ему «только движущимся снимком». Персонаж романа «Отчаяние» пытается скрыть свое преступление, инсценировав собственную смерть. Мысль переодеть убитого им человека в свое платье оценивается как некий совершенный художественный замысел, а осуществление этой идеи - как безупречное артистическое исполнение. Во время казни Цинциннат Ц. (роман «Приглашение на казнь») восклицает: «Прошу три минуты антракта, после чего доиграю с вами эту вздорную пьесу». Лик из одноименного рассказа В. Набокова представляет, как он «смерти не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы». Наличие уникальных ассоциативных связей между различными ассоциативными полями отражает то новое знание, которое автор вкладывает в содержание произведения. Именно эта особенность художественного мышления писателя позволяет ему вновь и вновь по-разному отвечать на вечные вопросы бытия в процессе творческого поиска.
к языковой личности Владимира Набокова.
Так как жизнь - игра, а смысл жизни, бессмертие, Набоков видит в поэзии («Под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи» (Набоков 1998), то и творчество, являющееся одним из ключевых мотивов набоковских произведений, превращается в своеобразную игру: героя - со словами и приемами, автора с героем, героя - с жизнью и смертью, автора с читателем. Например, положение Цинцинната Ц. («Приглашение на казнь») в условном, гротесковом мире тоталитарной реальности, сконструированным авторским сознанием героя-писателя, полностью определяется теми рамками, которые установила для него вознесенная над ним фигура истинного творца текста - Вл. Набокова26.
Отметим, что персонажем «набоковской игры» может стать литературный жанр, отдельное произведение, строка из этого произведения, а то и сама буква. «Особым чутьем молодой автор предвидел, что когда-нибудь ему придется говорить совсем иначе, не стихами с брелоками и репетициями, а совсем, совсем другими мужественными словами о своем знаменитом отце» («Дар»). Стихи как часть мотива «творчество» персонифицируются, начинают жить своей автономной жизнью «с брелоками и репетициями» на игровой арене, управляемой автором. «Или тут [в стихотворной строке] колоссальная рука пуппенмейстера вдруг появилась на миг среди существ, в рост которых успел уверовать глаз» («Дар»). Буквы оживают, способные воплотить в себе движения и перемены, происходящие в мире, приобретают человеческие свойства и качества. «Одна из них напоследок как-то еще переворачивается, поспешно встав на колени (комический персонаж, непременный Яшка-Мешок в строю новобранцев)». Или: «В видах экономии заглавное слово замещалось на протяжении соответствующей статьи его начальной буквой, так что к плохому освещению пыли и мелкоте шрифта примешивалось маскарадное мелькание прописной буквы» («Другие берега»). «Маскарадное мелькание прописной буквы» ассоциируется с хаотичными действиями человека - организатора игры - в процессе творческого акта. Как видим, автор активно использует в своих произведениях языковые термины и понятия, - и этот выбор концептуален: с их помощью происходит метафорическое включение языка и его элементов в круговорот бытия, языковые единицы персонифицируются, «овеществляются», приобретают онтологический статус наравне с людьми, вещами, явлениями природы, становятся суверенными автономными сущностями.
Использование различных языковых средств позволяет писателю разнообразить способы организации игры между автором и читателем. На языковых ассоциациях по звуковому сходству строятся формальные парадигмы, состоящие из слов-омонимов (за счет обыгрывания полной омонимии), омофонов, омографов, омоформ. Как известно, каламбуры, основанные на омонимии, лучше всего описаны в научной литературе и воспринимаются как наиболее традиционные. Тем интереснее выделение в текстах, построенных по законам игровой стилистики, нестандартных и отклоняющихся от стереотипов вариантов. В текстах В. Набокова обнаруживается множество таких примеров, но самым интересным из них, на наш взгляд, являются случаи «окказиональной омонимии». Так, в «Даре», характеризуя взаимоотношения между Чернышевским, Костомаровым и Писаревым, автор пишет: «У нас есть три точки: Ч. К. П. Проводится один катет, ЧК. К Чернышевскому власти подобрали отставного уланского корнета Владислава Дмитриевича Костомарова, еще в августе прошлого года, в Москве, за тайное печатание возмутительных изданий разжалованного в рядовые, - человека с безу- минкой, с печоринкой, при этом стихотворца: он оставил в литературе сколопен- дровый след, как переводчик иностранных поэтов. Проводится другой катет, КП» («Дар»). Легко узнаваемые аббревиатуры - ЧК и КП - в плане смысловом подталкивают читателя к мысли, что деятельность революционных демократов заложила истоки основанного на терроре коммунистического режима.
Окказиональная омонимия может служить средством раскрытия своеобразия ассоциаций, возникающих в сознании поэта, творца. Например: «Я ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова «экстаз», которое уже тогда для меня звучало как старая посуда, «экс - таз» («Дар»). Или, в этом же романе: «А какое имя перевозчичьей фирмы? Max Lux. Что это у тебя, сказочный огородник? Мак-с. А то? Лук-с, ваша светлость».
героя - как правило, испытываемое им смятение, но и содержат в себе ключевые понятия. Например, находящийся на почтамте и пребывающий в смятении Г ерман Карлович (роман «Отчаяние») рефлекторно хватается за ручку: «... худосочное перо в моей руке писало такие слова: Не надо, не хочу, хочу, чухонец, хочу, не надо, ад». Хотя каждое слово частично извлечено из предыдущего за счет фонетических и графических трансформаций, ключевое понятие в данном каламбурном ряду, безусловно, «ад», характеризующий рассказчика.
В финале того же романа у затравленного, ожидающего ареста Германа Карловича возникает еще один ассоциативный ряд: «Лают собаки. Холодно. Какая смертельная, невылазная мука. Указал палкой. Палка - какие слова можно выжать из палки? Пал, лак, кал, лапа. Ужасно холодно». На первый взгляд, мы имеем дело с чисто формальным манипулированием звуками и буквами. Но, похоже, персонаж подсознательно выстраивает определенную смысловую последовательность, где ключевое слово, очевидно, «пал», так как партия Г ермана Карловича сыграна.
Всем известно демонстративное неприятие Владимиром Набоковым метода психоанализа. Однако в качестве организации игры с читателем Набоков нередко прибегает к приему трансформации звуков, который З. Фрейд решительно связывает с процессами, регулирующими психическую деятельность человека.
Набоков - «Лолита» (Набоков 2001): «Чем поцелуй пыл блох?» - через прием параграмматического характера (который традиционно рассматривается как одна из самых примитивных разновидностей остроумия), Набоков мастерски передает эмоциональное состояние персонажа. Эти слова бормочет изнемогающий от страсти Гумберт, теряющий способность к вразумительной речи.
Характерной чертой набоковского стиля является стремление сохранить между произведением и его читателем определенную дистанцию, в то же время автор стремится вовлечь читателя в работу над созданием художественной реальности. Этот эффект достигается благодаря оставляемым автором смысловым лакунам, которые должен заполнить читатель. Например, в романе «Отчаяние» Герман Карлович произносит фразу: «Было у нас всякое домашнее зверье, как, например, кролики, - самое овальное животное, если понимаешь, что хочу сказать». Слово «овальный» употреблено в окказиональном, незафиксированном словарями значении «способное к быстрому размножению» (с англ. слово от читателя («если понимаешь, что я хочу сказать»).
Интересным представляется восприятие фразы: «... уголок рукописного объявленьица - о расплыве синеватой собаки» («Дар»). Отрывок этого текста объявления не позволяет судить о свойствах описываемой в нем собаки, однако элемент - ватая (собака) позволяет предположить, что какое-то из свойств в объявлении упоминалось (причем суффикс - еват указывает на слабое проявление этого признака). Не раскрывая смыслового содержания определения, Набоков восстанавливает его структуру, соединяя сохранившуюся в объявлении часть слова с прилагательным синий, характеризующим цвет чернил. Следствием этой операции становится появление контекстного лексического контамината: синеватой собаки (синие чернила + (рыж)еватая собака). Расплыв - окказиональное существительное от глагола расплываться (о жидких красках). Художественный эффект основан на подчеркнутом нарушении норм литературного языка, благодаря чему возникает чувственно воспринимаемый зрительный образ.
На уровне речевой художественной формы произведений игровой подход автора к тексту выражается также в использовании таких приемов, как реализация в слове одновременно нескольких его значений, столкновение прямого и переносного значений слова в одном контексте, реализация метафоры, буквализация фразеологических и риторических оборотов, и конечно контаминация, с помощью которой выявляются позиционные возможности слова, способности слова к комбинаторным изменениям. В качестве примере проанализируем одну строфу из рассказа «Лик»: «Есть пьеса «Бездна» (L Abime) известного французского писателя Suire. Она уже сошла со сцены, прямо в Малую Лету (т.е. в ту, которая обслуживает театр, - речка, кстати сказать, не столь безнадежная, как главная, с менее крепким раствором забвения, так что режиссерская удочка иное еще вылавливает спустя много лет)». Богатый ассоциативный потенциал лексических репрезентантов мотива «игра» в этом отрывке (сцена, театр, режиссерская) взаимодействует с ассоциативным полем «река» (Лета, речка, раствор, удочка, вылавливает), объединяясь во фразу «сойти со сцены прямо в Малую Лету» (сойти со сцены + кануть в Лету). Семантическая насыщенность образованного выражения очевидна. Выражение «кануть в Лету» имеет только одно значение «быть забытым, бесследно исчезнуть», а фразеологизм «сойти со сцены» многозначен и имеет значения 1)утратить прежнюю значимость и 2)перестать существовать. В контексте фразы «Пьеса уже сошла со сцены прямо в Малую Лету» данный фразеологизм сохраняет многозначность: использование слова «пьеса» дает основания говорить о реализации значения «перестать исполняться», в то время как наличие контекстного элемента «в Лету» указывает на значение «перестать существовать». Элементы «безнадежность», «забвения», «много лет спустя» подчеркивают совпадение в значениях двух фразеологизмов. При этом данный контаминат каламбурного характера и его лексические репрезентанты, обслуживающие пересекающиеся индивидуально-авторские ассоциативные поля, не служат исключительно средством создания комического эффекта, а выполняют в контексте рассказа «Лик» другую функцию: предопределяют судьбу героя, смысловое содержание рассказа, а следовательно, способствуют постижению сложной многоуровневой художественной задачи автора.
Различные приемы организации игры со словом в индивидуальной картине мира автора выполняют и еще одну очень важную функцию - обличения неприемлемых для Набокова пошляков и пошлости: игра слов выступает как средство характеристики отрицательных персонажей. Например, в романе «Дар» выведен хам и пошляк Щеголев, отчим возлюбленной героя Зины Мерц. Его речь отличается обилием каламбуров. «Вместо «выпили шампанское и отправились в путь», он выражается так: «Раздавили флакон и айда», - иронично замечает писатель. Будучи сам воплощением вульгарности, филистерства, непорядочности, он и каламбуры строит убогие, неполноценные, которые характеризуются как «мерзкий вздор» и «гортанное коверкание русской речи». Поводом для такой характеристики становится привычка персонажа говорить «мокрому гостю, наследившему на ковре: «Ой, какой же вы наследник!». В романе «Защита Лужина» выведен еще один пошляк - отец жены шахматиста. Он также характеризуется своими «потугами» на игру слов, основывающуюся на примитивном разрушении фразеологических оборотов. Он искренне радуется болезни Лужина и заявляет: «О сумасшествии нет никакой речи. Человек будет здоров. Не так страшен черт, как его малютки. Я сказал «малютки», - ты слышишь, душенька. Но дочь не удивилась, только вздохнула». Реакция дочери, как дает понять В. Набоков, вполне объяснима: что скажешь в ответ на пошлость? Таковы Лида в «Отчаянии», Джон Фарло в «Лолите» и многие другие отрицательные персонажи Набокова.
Очень значимым для постижения идиостиля писателя является также изучение взаимодействия ассоциативного поля «игра» с такими организующими «наивную картину мира» категориями, как «мысль» («Но даже этому переливу многогранной мысли, с самим собой некого было учить»; «Что играло... световая ли реклама или человеческая мысль, мысли проделывали, пользуясь по правилам игры мерой человеческого шага»); «совпадение» («Разыгравшаяся сила совпадений играть силой своей воли»); «воображение» («В обстановке класса, наскоро составленного аляповатым бутафором кошмара, опять не знаешь урока»); «счастье» («Узаконенное из различных предметов технической роскоши»; «судьба» («Отчаянный маневр: судьба показала мне твое голубоватое платье»); «память» («По залу ходит... среднего роста господин, с лицом некрасивым, но озаренным удивительным выражением самоотверженности и покорности судьбе (что было. лишь игрою памяти открывают огромные потенциальные возможности, стоящие за ключевым концептом «игра», поднимают нас на уровень философского осмысления проблем жизни и смерти, конечности жизни и бытия. Это дает нам право утверждать, что ассоциативное поле с доминантой «игра» занимает исключительную важность в процессе смыслового развертывания набоковского текста27. Актуализированный в лексической структуре конкретных произведений, оно вступает в различные межкатегориальные отношения с другими ассоциативными полями, аккумулирует в себе новое знание о поэтической картине мира автора, которое может оказывать давление на формирование тезауруса читателя, приводит к перестройке его уже сложившейся картины мира.
2.3.3. Ассоциативное поле с доминантой «река»
и его лексическое выражение
Переплетаясь с метафорой «жизнь - игра», в произведениях В. Набокова функционирует и другое ассоциативное поле «жизнь-река». Реализация экспрессивно-семантических потенций этого образного ядра осуществляется посредством ассоциативного «притяжения» широкого круга повторяющихся периферийных образов, ассоциативно сопряженных с элементом метафоры «река». Река (поток) в традициях культуры выступает как мощный символ уходящего времени и жизни. Кроме того, реки были важными символами постоянно восполняемого богатства природы, очищения и движения. Семантическая характеристика лексемы «река» в текстах Набокова художественно нерелевантна, она составляет «пресуппозицию» (И. Я. Чернухина). Эстетическую значимость приобретает образная актуализация «потенциальных» (В. Г. Гак) или «ассоциативных» (Д. Н. Шмелев) признаков смысла в семантической структуре значения слова «река» (семы непрерывности, бесконечности, неутомимости, текучести, неудержимости, буйства и др.), что позволяет воспринимать жизнь как действие неконтролируемой, неукротимой стихии.

река, а также сопряженных с ним слов-символов, раскрывающих восприятие жизни как плавания, притягивает целую систему дистантных образных средств, рассредоточенных в ретроспективном и перспективном планах текстов по принципу дисперсии (рассеивания). Графически это можно представить так:
где
1) А - А’ - ассоциативно сопряженные мотивы;
2) В, С, Д... - лексические единицы, по смыслу и ассоциативно связанные с А;
3) В’,С’, Д’... - лексические единицы, по смыслу и ассоциативно связанные с А’;
струи тумана).
«Рассеянное единство» образов (В. В. Виноградов), исходящих от ядерного тропа (А - А’), образует целую систему образных средств - это образноассоциативный ряд метафорических именных сочетаний, раскрывающих стороны образно-смыслового направления ядерного тропа: рябь рифмы, портик павильона, островки чертополоха, отлив бабочек, дно мысли, гребень воспоминания («Побежала дальше рябь рифмы»; «В конце бульвара зазеленела опушка бора, с пестрым портиком павильона»; «Сначала - сквозистые места, с островками чертополоха, крапивы или царского чая, среди которых попадаются отбросы»; «Уловив какую-то давно знакомую, золотую, летучую линию, тотчас исчезнувшую навсегда, он мельком почувствовал вся прелесть и богатство которого были в его неутомимости»; «Отец... стоит на гребне моего воспоминания»; на темном дне каждой его мысли» («Дар»); флотилия чаинок, наплыв благоухания, струи тумана, глубина неба, бездна мерзости, настой темноты («Давали бранда-хлыст с флотилией чаинок...»; «Изредка говорил о близости Тамариных садов»; «Внизу.едва виднелся в струях тумана узористый герб моста»; «В розовой глубине неба бездну мерзости»; «Слабый настой темноты в камере.» («Приглашение на казнь»); волна (собственной) мысли, бездна печали, одиночества, страха, прилив и отлив гувернанток, бездна сада, прибой детства, течение времени, чистая стихия времени, капля звезды кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей»; «Бесновались сверчки в орошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада»себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил - как делились, - с другими купающимися в ней существами»; «Читал под каплей звезды..», «Я со странным чувством узнавал ... прибой моего международного детствафонтанчик умывальника»; «Лежишь, словно на волне воздуха»; «В голой комнате, где за низкой перегородкой, в душной волне солнца, сидели за своими столами чиновники, опять была толпа» («Машенька») и др. Образно-ассоциативный ряд глагольных метафор: «Хлынул ветер», «Мать уплывала куда-то в глубь дома» («Защита Лужина»); «Братья потекли вслед» («Королек»); «Цветы сливались в цветные строки», «Предметы плывут мокрым миражом» («Уста к устам»); «Струился голос», «Зыбилось вырское лето» («Другие берега»); «Директор хлынул в камеру», «Дорога полилась прямее, вольнее», «Солнце проливало страстный, ищущий чего-то свет», «Стол немножко колыхался», «Цинциннат пошел на дно времен» («Приглашение на казнь»); «Мысль ободрилась на этом нечаянном привале и уже потекла иначе», «Книга... вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная ... уже не изливалась могучими радостными лучами», «Мать. переливала свои совершенно небесные драгоценности из бездны в ладонь», «Лидия Михайловна поплыла в гостиную», «[Федор Константинович] погрузился в нее [улицу], как в холодную воду», «В синюю темноту поплыли, празднично и зыбко белеясь, дачницы», «Пошатался по бледным улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков», «Громада дома, заслоняя белый берлинский день, медленно расплывалась», «От стесненного восторга и боязни этот восторг выказать приливала и отливала кровь», «Вернуться. к блаженному туману, в котором плыла его настоящая жизнь», «Мысль моя омылась, окунувшись недавно в опасную, не поземному чистую черноту», «Ширин. в очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких, прозрачных глаза» («Дар»). Метафорические эпитеты: «фонтанная прохлада пола», «стекавшее с кушетки ручное зеркало» Мар- финьки, «суровое шкиперское внимание» и «ракообразная рука» Родиона, «струящиеся волосы Эммочки» («Приглашение на казнь»), «струящиеся диадемы и ожерелье на материнской шее» («Другие берега»), «журчащий сумрак» («Машенька»), «текучие огни», «капельное притяжение», «бездонная алость» («Дар»).
«ладье, дающей течь», а накануне казни называется «пристанью»; хвоя сосен в лесу, по которому каждое утро прогуливался Федор Константинович напоминала ему «водоросли, шевелящиеся в прозрачной воде», барханы гобийских песков в фантастических путешествиях героя с отцом движутся, «как волны», его дом похож на «огромный красный корабль», который «несет на носу стеклянносложное башенное сооружение», на «озаренное море» походит и «тусклостеклянная часть зининой двери»(«Дар»).
Устойчивость образных зарисовок, повторяемость тематически сопряженных образов объясняется во многом приверженностью писателя к определенным лексико-семантическим разрядам слов, относящихся к ассоциативному полю «река» или к словам океан, море, поток, ручеек, омут, водоем, волна и др., парадигматически связанными со словом «река». Смысловым признаком, объединяющим элементы данной парадигмы, является сема «вода». «Ни в себе, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю, только подняв ее на свет искусства», - признается Набоков в автобиографическом романе «Другие берега». Если жизнь - река, то творчество, неотделимое от жизни,- плавание по ней.
Реализуя свои центростремительные потенции, образное ядро поля вступает в парадигматические отношения с ассоциативно сопряженными периферийными тропами, формирующими отдельный образный фрагмент текста (абзац или сверхфразовое единство), Такое сверхфразовое единство, по мнению Б.А.Маслова, «выступает как некий смысловой блок, ограниченный определенной темой описания (его можно подвергнуть компрессии и передать с помощью дескрипторов), то есть как «макросема» (Маслов 1974, 188).
речь - ручей, слова - рыбы, любовь - родниковая вода, тело - мост над водопадом и т.д.): «Потоки книг возвратились в океан библиотеки», «Федор Константинович.сочинял... стихи, которые в ближайший же вечер дарятся, чтобы отразиться в волне, вынесшей их», «Самая работа по вылавливанию материи слов уже окрашена в цвет будущей книги, как море бросает синий отсвет на рыболовную лодку», «Книга говорила с ним [Ф.К.] полным голосом, все время сопутствуя ему, как поток за стеною», «Он [отец Федора] где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении, в каком-то омуте затруднений и бед», «Их вечерние встречи [Федора и Зины] вышли из берегов первоначальной улицы еще весной», «Зал, повернувшись как корабль, ушел.», «По гладко выбритой груди стекал ручеек пота, впадая в водоем пупа», «Двойная, как бы подтравная речь, вдруг выходившая наружу одним ручьем», «Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине» («Дар»); «По улицам, широким, как черные блестящие моря . расхаживали миры, друг другу неведомые», «Поезд несся в желтом потоке вечерней зари» («Машенька»); «Цинциннат. очутился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно-зеленые волны, круто взлизывали», «Страх. несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом» («Приглашение на казнь»); Женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни» («Весна в Фиальте»).
Богатство семной структуры лексических единиц, обусловливающих ее высокую частотность, используется писателем в различных художественных целях: от чисто изобразительных до передачи тончайших движений души набоковского героя, особенностей его внутреннего мира: «[Цинциннат ] почувствовал струю свободы. Она плеснула шире», «Он старался точно хотел затормозить и выскользнуть из бессмысленной жизни», «Все, что я написал, только пена моего волнения», «Беспрестанно потопляя волной собственной мысли...» («Приглашение на казнь»); «Дома я оставил всегда рядом со мной, даже сквозь меня, систему счастья», «Какое я ощутил растекающееся по всем жилам наслаждение» наплывом первых мужских чувств мне все- таки довелось испытать», «Отвлеченный мир. перестал быть забавным и обдает душу волною ужаса» («Другие берега»), «Хотелось бы все-таки понять, откуда оно, это счастье, этот обращающего сразу душу во что-то большое, прозрачное и драгоценное» («Набор»).
Денотат «жизнь» ассоциативно соотносится и с некоторыми другими образными микрополями, развивая концептуальные метафоры: жизнь - узор, жизнь - книга, жизнь - сон, обман, жизнь - пустыня, жизнь - картина и др. Все они взаимозаменяемы и помогают, с одной стороны, отразить специфику образного видения автора, с другой - актуализировать воображение читателя, сосредоточить его внимание на наиболее экспрессивно - значимых фрагментах текста.
2.3.4. Ассоциативное поле с доминантой «узор» и его лексическое выражение
В отношении языковой личности Владимира Набокова можно смело утверждать, что автор сознательно при создании своих творений ориентируется на определенный эстетический эффект. В одном из интервью Набоков, характеризуя себя как противника аллегорий, отмечает, что всегда стремится создать нечто вроде узора. Понятие «узор» - одно из ключевых в стилистике Набокова. В своих мемуарах писатель даже связывает тяготение к нему с событиями детства, когда ему преподавал рисование знаменитый художник Добужинский: «[Он] учил меня находить соотношение между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный драгоценный узор ., и внушил мне кое- какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве («Другие берега»). В той же книге В. Набоков мотивирует свою нацеленность на создание лексического «волшебного ковра» своим особым пониманием времени и пространства: «Признаюсь, я не верю в мимолетность времени - легкого, плавного, персидского времени. Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой» («Другие берега»).
День за днем, цветущий и летучий,
Мчится в ночь - и вот уже мертво
Царство исполинское - дремучий
Папоротник счастья моего.
В сердце сокровенного пласта -
Отпечаток веерный и вечный, -
Призрак стрекозы, узор листа (Набоков 1990, 81).
Ассоциативное поле лексемы «узор» в этом стихотворении конкретизируется и реализуется в тексте прежде всего через ассоциаты «папоротник», «веерный», «лист». Через метафорическое словосочетание «отпечаток вечный» ассоциативно соотносятся между собой понятия «узор» и «вечность». Лексема «хранится» соотносит нас также с понятием «память», которое не вербализовано в тексте, но благодаря его текстовому ассоциату легко констатируется в сознании читателя. Ассоциаты «сердце» и «сокровенный» усиливают важность стимула «память» и вместе с тем привносят свое дополнительное значение благодаря актуализации признаков «очень важный», «свято хранимый». Метафора «узор листа» входит в одно ассоциативное поле с другими метафорическими словосочетаниями «призрак стрекозы», «царство исполинское», «папоротник счастья моего», «под землей беспечной», задавая уже в этом стихотворении набоковскую модель двоемирия: реального - ирреального, настоящего - мнимого. Ключевой постулат философии писателя: счастье - в вечности, оно наступает за пределами человеческого бытия - «под землей». Узуальные антонимы день - ночь в стихотворении не противостоят друг другу: организуя одно смысловое поле, оформляют модель замкнутости бытия. Радость жизни и величие смерти переданы через ассоциаты «цветущий», «царство исполинское». Слово «цветущий» наиболее приближено к восприятию его средним носителем языка. В то же время оно имеет и символическую соотнесенность. «Цветок» - лаконичный символ природы, беспредельности ее совершенства, и в то же время эмблема круговращения - рождения, жизни, смерти и возрождения. Стимул «цветущий» входит также в ассоциативное поле «время», которое в свою очередь объединяет концепты «жизнь» и «смерть» (в символике некоторых народов «цветок» обозначает краткость жизни). О быстротечности земного бытия сигнализируют также ассоциаты «день за днем», «летучий», «мчится». Поэтому мы можем констатировать, что ассоциативное поле «узор» множеством своих ассоциатов пересекается с ассоциативными полями концептов «жизнь», «смерть», играющими ведущую роль в философии творчества Набокова (см. схему 1).
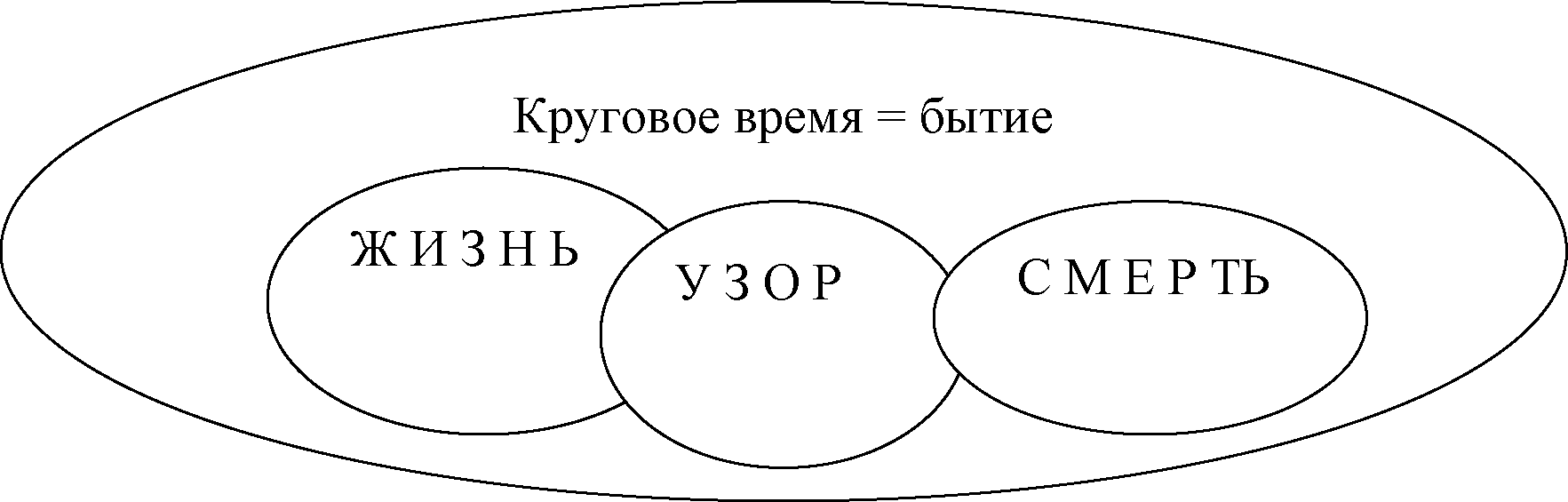
В этом небольшом по объему стихотворении кроме данного ключевого слова намечается и ряд наиболее значимых для авторской картины мира понятий: «время», «вечность», «счастье», «человек», «природа», «память».
Образ времени и жизни как узорчатой ткани повторяется и во всех прозаических текстах Набокова. В «Приглашении на казнь» узорчатый папоротник превращается в ковер: «Там время складывается по желанию, как узорчатый ковер». В «Даре»: «Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтоб один узор приходился на другой». И, если в первых двух случаях речь идет лишь о волшебном творении - «узорчатый ковер», то в более позднем произведении - «Даре» - «узор» дается в единой связи с его создателем, личностью че- ловека-творца («я научился так складывать»). Это позволяет говорить об эволюции творчества писателя, выражающейся в усложнении семантики ключевых слов-стимулов, вокруг которых формируются индивидуально-авторские ассоциативные поля. В «Парижской поэме» В. Набоков вписывает, а точнее «вплетает» себя в виде особого узора в жизнь мира: «В этой жизни,/богатой узорами,/ (неповторной, поскольку она/ по-другому, с другими актерами, /будет в новом театре дана),/ я почел бы за лучшее счастье/ так сложить ее дивный ковер,/ чтоб пришелся узор настоящего /на былое, на прежний узор...» (Набоков 2001). Ассоциативное поле лексемы «узор» в этом фрагменте коррелирует с понятиями «творец - время - вечность». Причем «узоры» рассматриваются здесь как «эпизоды жизни». Своеобразие ассоциативного поля «узор» заключается также в его составе, куда вошли также слова игровой семантики (актер, театр и т. д.).
Ассоциативный уровень текстов Набокова разного периода предстает перед нами как пересечение ассоциативного поля «узор» со всеми стимулами, важными для выражения авторской поэтической картины мира (см. схему 2).
Схема 2.
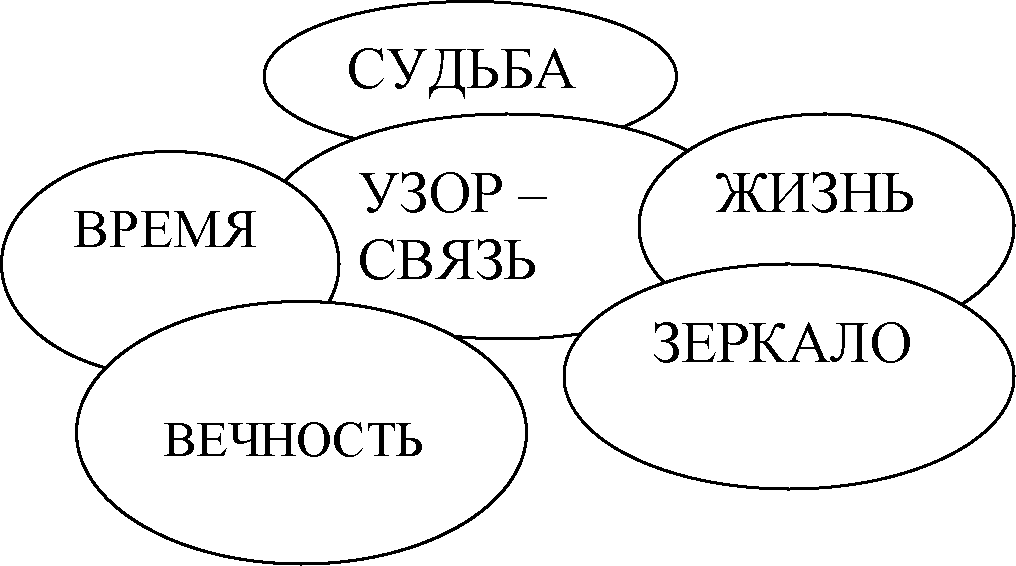
не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни» («Король. Дама. Валет»). «Казалось, что эта прошлая, доведенная до совершенства, жизнь проходит ровным узором через берлинские будни». «Комната совершенно обносилась... ее движение в пространстве... совпадало с движением его жизни. Звон молотка, шипение насоса, треск.мотора, немецкие взрывы немецких голосов. стало привычным и безвредным - едва заметным узором по тишине» («Машенька»). Умение ткать внезапные гармоничные узоры из далеко друг от друга отстоящих нитей Набоков ценит и в других писателях. «В «Дон-Кихоте» реальность и иллюзия переплетены в жизненном узоре» («Лекции по зарубежной литературе»). «Чехов словно не умел удерживать в фокусе узор жизни, который повсюду выхватывал его гений» («Лекции по русской литературе»). «Вечный узор» - «отпечаток гения» («Подлинная жизнь Себастьяна Найта»).
По Набокову, узор должен быть непредсказуем и в то же время просчитан природными механизмами. «Совпадение узоров есть одно из чудес природы» («Приглашение на казнь»). Создание узоров обозначает поиск некой комбинации, гармонии, смысла, которые автор ищет в искусстве, в частности, в литературе (В детстве писатель учился, «сопрягая звуковые узоры со зрительными», извлекать «драгоценный узор» из соответствия между своими рисунками и окружающими предметами. Чувство гармонии и равновесия он перенес на создание лексического «волшебного ковра»).
Кроме того, следует отметить, что узор выполняет функцию формальной организации текста. Узор - это и художественная деталь, которая в индивидуальном стиле Набокова дает ключ к расшифровке узоров тематических и сюжетных. «Развитие тематических узоров - главная задача мемуариста», - заявляет писатель в «Других берегах». «Все мои рассказы, - писал В. Набоков, - это паутина стиля, при беглом взгляде кажется, что во всех них нет кинетического содержания. Для меня стиль и есть содержание (Набоков 1994, 88). Соотношение «кинетического» содержания (развитие сюжета, конфликтной сферы) с «узором» второстепенно. Автор подчеркивает повышенную значимость и «самодостаточность» узора.
Слово узор в идиостиле Набокова входит в одно ассоциативное поле со словами и т.д. Эти слова взяты из разных сфер. В одно ассоциативное поле они объединяются в первую очередь на основе гиперо-гипонимических отношений: стиль - компоненты стиля. Анализ ассоциативных связей внутри данного семантического поля представляется нам очень интересным. «Итак, кружево, узоры, ткань одновременно эмоциональная и логическая, изящная и полная смысла текстура - вот что такое стиль, вот что составляет основу писательского мастерства, - говорил Набоков («Лекции по зарубежной литературе»). Слово «узоры» выступает доминантой тематического ряда: узоры - искусство вышивки - особая текстура - ткань (причем имеется в виду качественная сторона языковой ткани, включающая в себя всю совокупность поэтических выразительных средств). Лексема «ткань» употребляется в составе следующих метафорических словосочетаний: ткань бытия, ткань мира, ткань времени, ткань жизни, ткань шедевра и т.д. Эти метафоры варьируют во многих текстах писателя. «Прозрачность», «сквозистость» художественной ткани, ее «тонкий покров» создается «волшебной вуалью слов». Самое важное для писателя - сохранить в творчестве «клейкую свежесть переводных картинок» («Другие берега»).
Художник, творец может уловить некие знаки, символы, проступающие сквозь ткань бытия. «Свойство истинных художников: воспарить над обыденным и увидеть ткань этого мира, ее уголок, ее основу» («Бледный огонь»). Автор - искусный ткач, композиция романов - паутина, комментарии к тексту - испод холста. Образ изнанки, подкладки мира, священного «узора в судьбе», который противостоит лицевой стороне, многогранно варьируется в романах «Машенька», «Приглашение на казнь», «Другие берега», «Бледный огонь». «Он вдруг заметил выражение глаз Цинцинната Ц. - мгновенное, о, мгновенное, - но было так, словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг прокладка» («Приглашение на казнь»). «Федор Константинович почувствовал - в этой стеклянной тьме - странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она завернулась и он увидел ее необыкновенную подкладку» («Дар»). «Привязанность человека к шедевру может быть совершенно подавляющей, в особенности, когда изнанка ткани восхищает созерцателя и единственного зачинателя, чье прошлое переплетается в ней с судьбой простодушного автора» («Бледный огонь»).
Набоковская «паутина стиля» закрепляется в качестве устойчивого образа в набоковедении, язык которого во многом строится на образности самого писателя: «Поэт невстречи, он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку которой мы видим мир отчетливей, а не туманней» (Битов 1990, 65). Вл. Ходасевич рассматривает роман «Приглашение на казнь» как цепь арабесок, узоров, подчиненных стилистическому единству (Ходасевич 1988).
Для реконструкции поэтической картины мира В. Набокова в ассоциативной параллели «жизнь - узор» важны ее составляющие: прошлое, настоящее, будущее.
«И тогда уж как-нибудь мы сложимся с тобой, приставим себя друг к дружке, решим головоломку, - думает Цинциннат Ц., - ... соединим, проведем и получится из меня и тебя тот единственный наш узор, по которому я тоскую» («Приглашение на казнь»). Будущий узор - только в мечтах Цинцинната, лексема «узор» в этом контексте имеет окказиональный смысл. Образование узора воспринимается как возможность объединения «я» с «другим», появления «высшей» гармонии.
«Казалось, что эта прошлая, доведенная до совершенства жизнь проходит ровным узором через берлинские будни» («Машенька»). Узор, наоборот, появляется в прошлом, в воображении Г анина. Ассоциативное поле «узор» организует оппозицию «родина - чужбина» (узор ассоциируется в сознании читателя с возвращением на родину). О настоящем: «Он воспользовался совершенной свободой в этом мире теней, чтобы взять ее за призрачные локти, но она [Зина] выскользнула из узора» («Дар»).
Настоящая жизнь может выступать в виде изнанки узорчатой ткани. «Но если хворала она [Таня], каким зеленым и здешним, каким футбольным мячом чувствовал себя я, глядя на нее, лежащую в постели, отсутствующую, обращенную к потустороннему, а вялой изнанкой ко мне» («Дар»).
исполнялись обязанности палача и все переносилось в изнаночный, зеркальный мир». «Преувеличенные тени листьев ложились на доски забора вполне осмысленно, по- порядку, - это служило некоторым возмещением, тем более, что их-то никак нельзя было перенести в другое место, заодно с досками, разбив и спутав узор: их можно было перенести на нем только целиком, вместе со всей ночью» («Дар»). Грани между реальным миром и ирреальным, воображаемым несколько размыты, что также характерно для поэтики Набокова.
Таким образом, текстовые ассоциаты на стимул «узор» в произведениях Набокова 1)создают сильный эстетический эффект; 2)выполняют функцию формальной организации прозаического текста; 3)определяют композицию двоемирия; 4)задают концептуально важное направление в художественной картине мира писателя, предстают перед нами как средство интуитивнохудожественного познания реальности. Анализ ассоциативных связей внутри данного поля позволил нам выявить окказиональный смысл лексемы «узор»; обращение к символической соотнесенности слов этого ассоциативносмыслового поля дало возможность по-новому осмыслить некоторые вопросы философии творчества писателя, определить место ассоциативного поля с доминантой «узор» в игровой стилистике В. Набокова.
2.3.5. Ассоциативное поле с доминантой «мир» как ключевой способ
постижения авторской картины мира
Понятие художественной картины мира в философии и мироощущении В. Набокова имеет ценностно-эстетическую направленность и входит в круг теоретико-литературных представлений писателя. Владимир Набоков обладал способностью видеть мир как потенциальную возможность литературы. Для него показателен поиск своего места в мире творчества и пространства языка. «Картина» для Набокова - аналог «произведения». Заметим, реакция «произведение» на стимул «картина» - индивидуальная, не зафиксированная в ассоциативно-вербальной сети среднего носителя языка (Русский ассоциативный словарь 1994 - 1998). В «Толковом словаре» слово «картина» имеет следующие значения: 1)произведение живописи; 2)фильм; 3)изображение чего-нибудь в художественном произведении; 4)то, что можно видеть, обозревать в конкретных образах; 5)вид, состояние, положение чего-нибудь; 6)подразделение акта в драме. Набоков придает этому слову не только окказиональный смысл, но и эстетическое наполнение. Как «вереницу роскошных и нежных картин» воспринимает писатель мир Гоголя. У Пруста Набоков отмечает «отчетливость картины, твердой рукой правленный в черни и серебре пейзаж». «Пейзаж» - в зн. «текст» также входит в ассоциативное поле «мир произведения». Лексема «картина» ассоциируется с панорамностью, визуальностью, наглядностью. «Трещины в картине» - отсутствие единства в произведении.
за счет семантического ряда: созерцатель - посредник - наблюдатель - руководитель. (Например, в романе «Дар»: «Небо, как простокваша, опаловые ямы, дом в лесах... само по себе все это было видом, как комната была сама по себе; но нашелся посредник, и теперь этот вид становится видом из этой именно комнаты»). Лексема «картина» в творческом мире Набокова обозначает результат художественного процесса и включает в себя художественную реальность, текст («связная картина»), а также особое видение, обзор, составление и сочетание наиболее значимых элементов, «яркие пятна». На схожести восприятия литературного произведения и картины построен едва ли не самый значительный уже в ранней прозе Набокова рассказ «Венецианка», в котором писатель конкретно определяет источники художественного творчества. Ключевыми словами, выражающими идею рассказа, являются слова «живопись - желание - потусторонний мир». В ином мире, ином пространстве - эстетически совершенные образы. Словесный текст обрамляет другой текст, что, в свою очередь, предопределяет особый способ прочтения «Венецианки». Симпсон, поддавшись магнетизму потустороннего пространства картины (предпочтя Марийн - красавице во плоти - Венецианку), обрекает себя на то, чтобы сделаться его частью. Читатель же, наблюдающий за лунатическим путешествием Симпсона, ощущает текстовое подобие пространства картины, в которое тот попадает.
Индивидуальные ощущения автора можно перевести на язык глубинных оппозиций, которые составляют «онтологию» его мира: реальное - нереальное, действительное - воображаемое, истинное - мнимое, сон - явь, жизнь - текст, внутреннее - внешнее, бытие - грамматика, я - другой. Система смысловых оппозиций относится к области того, о чем говорит писатель и как он ощущает мир. Это «как бы лексика и грамматика его поэтической личности» (Лотман 1970, 294).
Следует отметить, что реальный мир у В. Набокова оказывается зыбким, рассыпающимся, бесцветным.
Образ призрачного мира создает ассоциативный ряд слов с ключевыми лексемами: туман - обман - мираж - мимикрия - иллюзия - маска - тени - дрожащий - мерцающий - мелькающий - скользкий - сквозной - бледнеть - зыблиться - исчезать - пропадать - растворяться - таять - рассыпаться - разъедаться - проваливаться - расплываться - истлеть - казаться - мерещиться и т.д. Слова этого ассоциативного ряда В. Набоков наделяет личностными смыслами. В романе «Приглашение на казнь» приговоренный к смерти Цинциннат Ц. разрывает конверт, принесенный ему адвокатом, не зная, что в нем может быть приказ о помиловании и тщетно пытается сложить клочки - «все было спутано, искажено, разъято». Глаголы, входящие в данный синонимический ряд, включают в свое значение смысл «нарушение», но степень выраженности этого смысла различна. Путать - «приводить в беспорядок, нарушать обычное расположение ч.-н.». Исказить - «представить в сложном неправильном виде, резко ухудшить. Разъять - «разъединить, разделить на части». Наиболее точно смысл «нарушение» выражен в слове «спутано». Этой глагольной форме сема нарушения присуща и вне контекста, вне актуализации, т.е. данная сема в слове «спутано» выражена эксплицитно. Каждое последующее слово в этой цепочке контекстуальных синонимов включает важнейшие семы предшествующего. В значении глагола «исказить» входит компонент «нарушить», выраженный неявно, имплицитно. Включение однонаправленное: для того, чтобы что-то исказить, нужно что-то нарушить, но некоторые искажения, очевидно, возможны и без нарушения. В контексте признак нарушить актуализируется + добавляются семы: резко, до неузнаваемости, которые усиливают данный признак. У глагола «разъять» в контексте также актуализируется сема нарушения, которая носит функциональный характер, так как эта сема не закреплена в системе языка за данной лексической единицей, + рациональная сема нарушить «путем разъединения». Языковая «неправильность», подчиняющаяся закону смысловой «избыточности», проявилась в данном примере в универсалии: многократном усиление характерных признаков художественной реалии (образа) на основе особых слов - экспликаторов. Здесь происходит тройное усиление названного действия1: смещение акцента на степень нарушения подчеркивает непрочность, бессмысленность реальности в авторской индивидуальной картине мира.
действия» его персонажей. Возможность спасения, т.е. смысла, уничтожена Цинциннатом. Сиринский персонаж мог быть помилован, но только в рамках центрированного смыслом дискурса, определяемого знаменитой фразой Лакана: «Письмо всегда доходит до адресата». Деконструкция этого дискурса ведет к тому, что письмо до адресата не дойдет никогда, ибо и первое обещание было иллюзорным, как идеальная норма. Не получившим письма адресатом оказывается и набоковский читатель. «Между тем как кругом все только что воображенное с такой картинной ясностью (которая сама по себе подозрительна, как яркость снов в неурочное время дня или после снотворного) бледнело, разъедалось, рассыпалось, и, если оглянуться, то как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней - все проваливалось и пропадало», - с этим ощущением знаком любой «хороший» читатель В. Набокова.
Прием тройного усиления признака очень характерен для поэтики Набокова и применяется в разных стилистических целях. Например, для характеристики образа персонажей: «Муж ее, страстный и острый делец, был в отъезде» («Бахман»). Острый - 5.Перен.Развитой, изощренный, тонкий. О слухе, зрении, памяти и т.п. 7,Перен. Очень сильно ощущаемый; резко выраженный. Страстный - 2. Крайне увлекающийся чем-нибудь, целиком отдающийся какому-нибудь занятию. Делец (неодобр.). - Человек, который ловко ведет свои дела, не стесняясь в средствах для достижения своекорыстных целей. За счет тройного усиления признака дается яркая характеристика образа персонажа: «кипучая, изворотливая натура».
Приведем примеры из романа «Дар». Мотив разъятости мира и людей, его населяющих, характеризует любую «реальную» сцену романа. Эпизод разъезда гостей после литературного вечера: «И тут все стали понемногу бледнеть, зыблиться непроизвольным волнением тумана... - и совсем исчезать... На мгновение еще вернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то уже тающую руку, а совсем уже напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках (шляпа Любовь Марковны), и вот исчезло все, и в полную дыма гостиную вошел Яша». Единственный целый человек в этой сцене - покойный Яша, а все живые люди разъяты на части (лоб, рука, шляпа).
Другой эпизод - герой, унесшийся в воображении в свое детство, внезапно возвращается к реальности: она оказывается не только враждебной, но и эстетически непривлекательной. «В усеянной белыми мушками просвете наметилось приближающееся смутное и желтое пятно» - вагон трамвая, асфальт «че- рен и гол», вокруг «безнадежно знакомые и безнадежно некрасивые» улицы, все «бледнеет», «разъедается, рассыпается» и «смутная ненависть к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров овладевает героем».
Как один из ведущих приемов в организации и оформлении эффекта двоемирия в произведениях В. Набокова можно отметить и цветопись, роль которой в организации смысла набоковского текста, в создании образов, имеющих символическое значение, очень велика. В идиолекте Набокова бледность - общий концептуальный признак человеческого мира, примета физического или морального нездоровья, черта «некрасивости», анемии, неодушевленности. В один ассоциативный ряд объединяются слова белый - бледный - светлый - тусклый - туманный - прозрачный - сквозной (сквозистый) - бесплотный - безликий: «тонкие, как бы бесплотные руки» Шока, «безликая бездна, бесплотный, опьяненный туманом огней» («Сказка»); Марк различал сквозные портики» («Катастрофа»); «Небо в те пасмурные, прелестные дни бывало и, посреди черной мостовой, ветки отражались в небольшой луже, похожей на плохо промытую фотографию» («Возвращение Чорба»); «Светлые, откинутые с виска волосы Рудольфа...» («Дар»). Эти определения встречаются во всех произведениях Набокова, различающихся по сюжету, теме, характером. Так, в романе «Защита Лужина» через данные эпитеты подчеркивается отчужденность, странность героя, его «непохожесть» на других, душевная болезнь: «.лицо сына, как бледное пятнышко», «бледные «белая голая шея». Часто эти определения мотивируют характеристики эпизодических лиц - реальных персонажей: «Горничная, коренастая, бледная девушка», «лица. как два пятна» («Машенька»); «Сверстники... с бледным серьезным ребенком», «белокурый «белая, крепкая рука Оли», «похожая на госпитальную сиделку девушка в черном платье с белым отложным воротничком», делец «с бледными белокурой бородкой» («Дар»); «коренастая бледная горничная», девочка с толстой черной косой», «белая беспокойная рука гостя- музыканта» («Защита Лужина»); В некоторых примерах эти прилагательные подчеркивают отрицательные характеристики персонажей, усиливая явно неодобрительные или пренебрежительные оттенки в их описании: жена игрока в ресторане - «бледная, как пласт остывшей телятины», «белая «бледная сестра», «бледные, чернорукие, раздраженные дети» (пассажиры в вагоне).
бытовых деталей. Покойник Яша «сидел... не поднимая глаз, с чуть лукавой чертой у губ. на стуле, вдоль сидения которого блестели медные кнопки. Несмотря на свой чисто умозрительный состав . он был сейчас плотнее всех сидящих в комнате! Сквозь Васильева и бледную барышню просвечивал диван, инженер Керн был представлен одним лишь блеском пенсне, Любовь Марковна - тоже, сам Федор Константинович держался лишь благодаря смутному совпадению с покойным, - но Яша был совершенно настоящий и живой и только чувство самосохранения мешало вглядеться в его черты». Отец во сне героя «был в золотой тюбетейке, в черной шевлотовой куртке. коричневые щеки были особенно чисто выбриты; в темной бороде блестела, как соль, седина, глаза тепло и мохнато смеялись из сети морщин. Федор шагнул к нему и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, уколов подстриженных усов, наросло блаженно-счастливое, живое, огромное, как рай, тепло, его дружба со студентом Рудольфом Бауманом и студенткой Олей Г., автор оговаривается: «Для каждого из упомянутых трех лиц я пользуюсь другим способом изучения, что влияет и на их плотность, и на их окраску». («Дар»).
В романе «Приглашение на казнь» происходит раздвоение личности персонажа. Первый Цинциннат, тот которого видят другие, - бледный, смутный, сравнительно глупый. В камере блуждает лишь «незначительная доля его», а главная часть находится «совсем в другом месте» - в потустороннем мире, мире теней, мире сна. Добавочный, нереальный Цинциннат поражает жизненностью, реальностью описания: «При этом все в нем дышало тонкой, сонной, - но, в сущности, необыкновенно сильной, горячей и самобытной жизнью: голубые, как самое голубое, пульсировали жилки, чистая, хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймленном растворенном светом».
В способности создать такой туманный, но поражающий своей телесностью мир, В. Набоков видел высшее проявление творческого гения художника. Ключевой ассоциат на стимул «мир» в творчестве художника слова - лексема «граница», организующая пространство двоемирия писателя. «Особенно же бывало хорошо в теплую пасмурную погоду, когда шел незримый в воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых там и сям появлялся другого происхождения круг, с внезапным центром, - прыгнула рыба или упал листок, - сразу, впрочем, поплывший по течению. А какое наслаждение было купаться под этим теплым ситником, на границе смешения двух однородных, но по-разному сложенных стихий - толстой речной воды и тонкой воды небесной» («Круг»); «Эти вести меня сильно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств» («Другие берега»); Или: «Чудовищное и чудесное сливалось в какой-то точке: эту-то границу мне хочется закрепить, но чувствую, что мне это совершенно не удается («Лолита»). В качестве самых частотных ассоциатов, относящихся к категории пространства и организующих ассоциативное микрополе «граница» нами отмечены узуальные лексемы в, внутри, снаружистена, горизонт, дверь, окно, круг, мост, зеркало. Окно, например, еще в романтической традиции представлялось как граница между мирозданием и комнатой. Г ерой рассказа «Благость», распахнув окно, «впускает утро - прищуренное, жалкое». Или, в рассказе «Стихи» - герой преисполняется радостью, преодолев границы двух миров: «Стоило мне утром или ночью открыть окно или подойти к дверямкругами накатывал на поле, колокола звонили, и все кругом было несказанно прекрасным». Такие элементы, как стены, окна, двери, являются не только деталями описания, но и двигателями сюжета. Например, действие романа «Дар» начинается и заканчивается на улице - и, что особенно значительно, темой входа в дом. Метафорически эти двери соотносятся с понятием перехода из «внешнего мира» в еще более «внешний», когда жизнь предстает в образе дома, дверь которого «до поры до времени затворена».
Личность и писательская манера Владимира Набокова, его главные герои, которые часто предстают перед нами поэтами или писателями, напоминают о статье Вяч. Иванова «О границах искусства», где автор пишет, что в «момент творческого акта художник удаляется в сферу, трансцендентную действительности, и это ведет к освобождению художника от волевых связей с ней и пробуждению в нем интуитивных сил, равному духовному восхождению. И теперь, зная сокровенные для простого глаза черты повседневной действительности, он готов творить Воплощение знания, ставшего результатом духовного восхождения»1. Такое «восхождение» происходит, например, с героем рассказа «Тяжелый дым». Его начальное состояние характеризуется тем, что «одурманенный хорошо знакомым ему томительным, протяжным чувством», он лежит в комнате, и в ее полумраке «любая продольная черта, перекладина, тень перекладины» обращаются для него «в морской горизонт или кайму далекого берега». Подобные метаморфозы приходят к нему сами собой, причем началом становится созерцание героем «сытого, сонного дыма из трубы», который «не хотел подняться, не хотел отделиться от милого тлена, и тогда-то, - замечает герой, - именно екнуло в груди, тогда-то» ... форма всего его существа как будто лишается «отличительных примет и устойчивых границ: его рукой мог быть переулок по ту сторону дома, а позвоночником хребтообразная туча». Привычные линии смещаются, тают: становится «расплывчато-темным прислон стула», наконец, герой ощущает свою кушетку, на которой лежит, «как будто относимую вбок течением теней». Таким образом, окружающий мир привычного и обыденного меняет свой лик, вещи начинают являть свои метафизические очертания. Герой начинает чувствовать свою неотъемлемость от мира и ощущать себя в сверхъестественном единстве с ним: «Ни полосатая темнота в комнате, ни освещенное золотой зыбью ночное море, в которое преобразилось стекло дверей, не давали ему верного способа отмерить и отмежевать самого себя». Метафизический характер связи поэта с миром подтверждается как символикой, так и грамматическими средствами, на что указывает, например, неупорядоченное употребление местоимений: герой говорит о себе то в первом, то в третьем лице. Как видим, тема двоемирия не нова для нашей литературы, она затрагивается множество раз, проступает в разнообразнейших вариантах. Но никем до сих пор она еще не разрабатывалась с такой последовательностью и с таким, этой последовательностью обусловленным, совершенством, с таким мастерством переосмысления восходящих к Г оголю, к романтикам, к Салтыкову, Свифту, символистам стилистических приемов и композиционных мотивов. Как известно, «структура смысла есть структура различия». А потому, взаимозаменяемость, взаимопереходность членов исходной для текста оппозиции, дает эффект «скольжения смысла, отнимающего у слов их идентичность, которую должен гарантировать нормальный дискурс» (Жак Деррида).
Рассмотренные нами через ассоциативные типы образности представленные оппозиции отражают основную модель набоковских текстов, дают ключ к интерпретации художественного мира писателя, в котором тема изменения состояний сознания, исчезновений, превращений, само пересечение границ между вымыслом и реальностью становится метатемой самой крупной темы Набокова - темы творчества - «концептосферы» (Л. Рягузова), заключающей в себе всю языковую репрезентацию поэтической картины мира автора.
Предприняв попытку выявить ряд особенностей поэтической картины мира В. Набокова через анализ внутритекстовых и межтекстовых ассоциативных связей и ассоциативно-смысловых полей, мы приходим к мнению, что писатель создал свой собственный концептуальный мир, несомненно, базирующийся на культурных традициях, и в равной мере отличный от традиционного восприятия.
Выводы
Ассоциативность - важнейшее качество художественного слова. Одним из способов проявления индивидуального стиля писателя является своеобразие авторского ассоциирования.
структуры, тематической соотнесенности, стилистической окраски и прагматики.
В художественном тексте ассоциации не только формируют его образный смысл, раскрывают неповторимость образного видения художника слова, своеобразие его стиля, но также обогащают творческое мышление читателя, т.е. наглядно отражают как модальную, так и прагматическую организацию текста.
Тесная связь модального и прагматического аспектов с характером ассоциативной упорядоченности словаря художественного текста обусловила появление двух подходов в изучении ассоциативных связей. Первый из них осуществляется в пределах текста, т.е. ассоциативными в данном случае являются внутритекстовые связи конкретного произведения или несколько произведений одного автора. Рассмотренные в работе типы текстовых ассоциаций раскрывают особенности индивидуальной картины мира автора, участвуют в описании текстовых индивидуально-авторских парадигм (ассоциативных рядов и ассоциативных полей) как основных средств формирования образной системы текста.
Наблюдения за спецификой ассоциативных образов, проведенные нами на материале оригинальных прозаических текстов Владимира Набокова, позволили обосновать некоторые особенности образно-ассоциативной системы писателя.
Система ассоциативных образов, развивающих эстетическое содержание произведений писателя, обусловила наличие в их художественных структурах семантических оппозиций, способствующих развитию эффекта двоемирия: реального - ирреального, истинного - мнимого, действительного - воображаемого, жизни - смерти, сна - яви, копии - оригинала.
Изучение ассоциативного поля с доминантой «игра» позволяет говорить об «игровой природе» творческого мировидения В. Набокова.
Ассоциативное поле «игра» соотносится и с некоторыми другими концептуально значимыми полями: «узор», «река», «книга», «сон», «обман», «пустыня», «картина» и т. д. Все они взаимозаменяемы и помогают, с одной стороны, отразить специфику образного видения автора, с другой - актуализировать воображение читателя, сосредоточить его внимание на экспрессивно-значимых фрагментах текста.
Исследование поэтической картины мира В. Набокова в ассоциативном аспекте позволило выявить особую значимость ассоциативного поля с доминантой «мир» в творческом мировидении художника и тесную сопряженность его с ассоциативными полями других рассмотренных подробно ключевых понятий («игра», «река», «узор»).
В целом рассмотренные нами межтекстовые ассоцивно-смысловые поля отражают динамику мироощущений автора и определяют специфику его творческого метода.